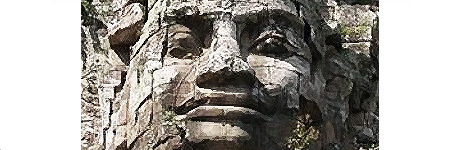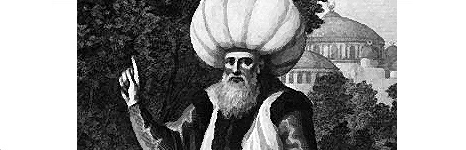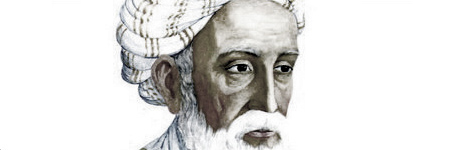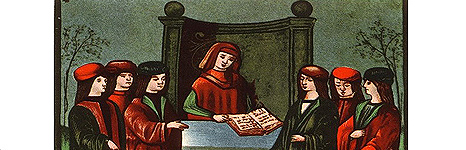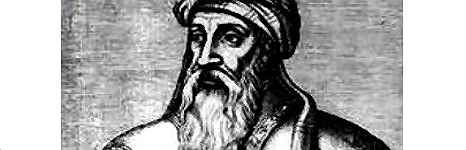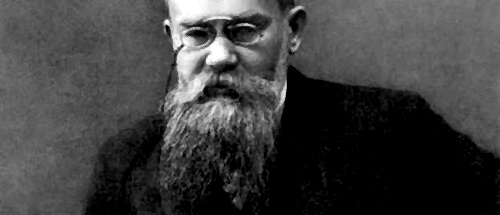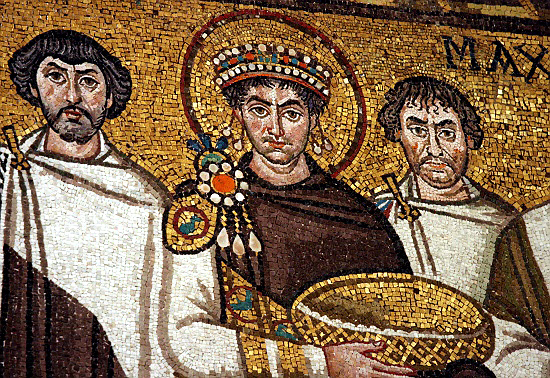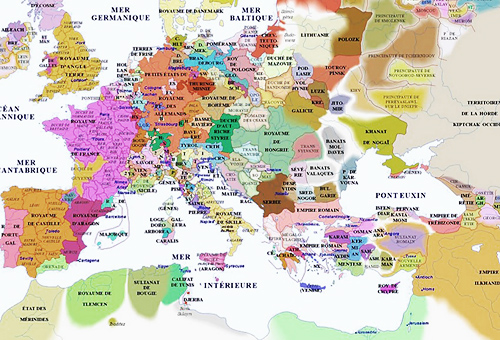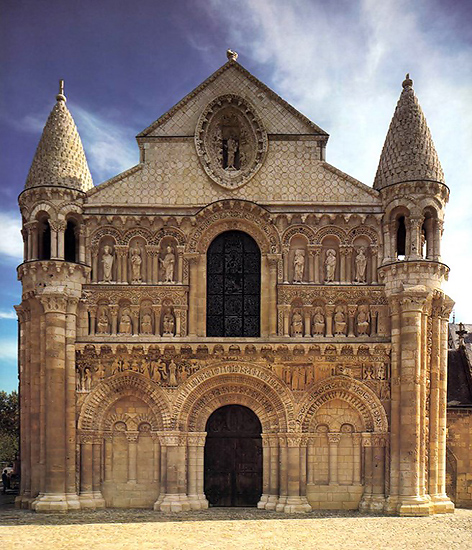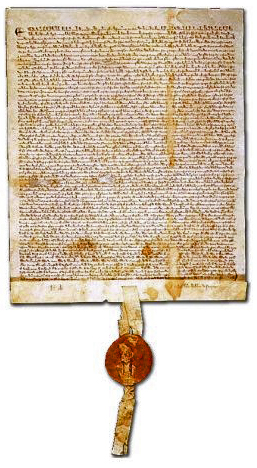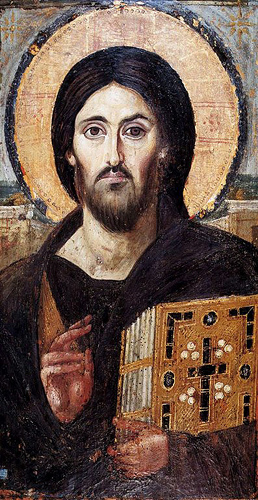О великих цивилизациях Америки мы до сих пор знаем до обидного мало. Цивилизации на основе производящего продовольствие хозяйства возникли там лишь в двух наиболее благоприятных для этого районах — в Мезоамерике (на покрытом джунглями перешейке, соединяющем континенты) и в Южной Америке, в долинах рек, стекающих с Анд.
Это были странные, на европейский взгляд, цивилизации. Большие каменные, торговые города, четкую систему управления обширными пространствами и многомиллионным населением создали люди практически каменного века.
У них не было не только железа и стали, но даже бронза и медь были не в большом ходу — у них были искусные ремесленники, работавшие по золоту и серебру, но давно обиходной в Евразии металлургии создано не было.
Американцы могли рассчитывать только на свою мускульную силу — одомашненных животных у них тоже практически не было. Они наверняка использовали системы рычагов, но здесь, в отличие от Евразии, не появилось облегчающих труд механизмов, основанных на колесе и зубчатой передаче.
Только в Андах не увлекались человеческими жертвоприношениями. Остальные же были уверены что Солнце ходит по небу не само по себе — для его движения и продолжения существования мира нужна жертвенная человеческая кровь, много крови. Можно восхищаться искусством строителей величественных пирамид, но не надо забывать при этом того, чем являлись эти пирамиды — огромными алтарями, на которых приносили массовые (тысячные) кровавые человеческие жертвы, а расчлененные на их вершинах тела сбрасывались с высоты…
При этом, все мы сейчас широко пользуемся, без преувеличения, величайшими достижениями американских цивилизаций — картошкой и кукурузой, помидорами и фасолью, подсолнечником и табаком, ананасами, авокадо, какао…
Майя — самая древняя американская цивилизация, ее характерные следы археологи находят уже в слоях 2-го тысячелетия до н. э. Но в 9-м веке н. э. по до сих пор непонятной причине население начинает покидать майянские города, которые быстро затягиваются джунглями — и цивилизация угасает. Еще раньше сошла на нет и древняя цивилизация ольмеков.
Самые известные американские цивилизации — чибча, ацтекская и инкская — сформировались довольно поздно — в 11-12-14 веках. Но на каком культурном слое они взошли, до сих пор остается неясным.
Долгое время скудость сведений о цивилизациях Мезоамерики списывали на испанских монахов, торжественно сжегших на костре богатую библиотеку ацтеков. Однако, были найдены документы, из которых явствовало, что нечто подобное за сто лет до этого проделали сами ацтеки, после чего заново переписали историю и своего, и окружавших их народов — монахи жгли уже тщательно отцензурованую ацтекскую историю:
«Хранилась их история.
Но она была сожжена тогда,
когда в Мехико правил Ицкоатль.
Было принято решение,
и ацтекские господа сказали:
Не подобает, чтобы все люди
знали рисунки.
Те, кто подчинены,
испортятся,
и все на Земле станет неправильным,
потому что в них содержится много лжи,
и в них многие почитаются как боги».
Так что, после такого двойного уничтожения памяти о прошлом сегодня археологам приходится буквально по крупинкам собирать сведения об этих исчезнувших цивилизациях…
В европейском Средневековье предпринималось множество попыток написать полную историю человечества, пристегнув к ней историю собственного отечества. И все эти истории начинались с одного и того же момента — с сотворения мира и человека. Не будем оригинальничать и тоже попробуем начать с самого начала.
«Сотворение» нашего мира началось тогда, когда человекообразные обезьяны начали давать генетические модификации, представители которых уже отдаленно напоминали нас, людей. Дата эта учеными постоянно отодвигается, и сейчас большинство из них считает, что произошло это примерно 7 миллионов лет тому назад. Произошло это в Африке, и с тех пор этот континент постоянно выбрасывал в остальной мир все новые виды человекообразных, каждый из которых имел в Евразии свою собственную судьбу (как правило, печальную — все они вымерли). В конце концов, 200 тысяч лет тому назад из Африки в Евразию вышли группы существ, которых ученые называют homo sapiens. Вот они-то, «сапиенсы», сумели выдержать все невзгоды, ко всему приспособиться и заселили постепенно все континенты Земли. Это — мы с вами, вернее, наши прямые предки.
 «Пещера рук», Аргентина, 9 тысяч лет тому назад
«Пещера рук», Аргентина, 9 тысяч лет тому назад
И вот, когда расселение людей по планете в основном завершилось, постепенно начала ощущаться разница в скорости развития разных человеческих сообществ.
Решающим было то, как быстро человеческие общины переходили от охоты и собирательства к самостоятельному производству продовольствия — к выращиванию на полях зерна и к разведению одомашненных животных. После такого перехода всегда появлялся излишек еды, ее запасы, — и человек впервые, пожалуй, мог разогнуть спину и заняться еще чем-нибудь, кроме ежедневного добывания пропитания.
При этом возникало множество новых потребностей — зерно нужно было вовремя посеять — появилась потребность в календаре (а значит, изучении звездного неба); нужно было изобрести новые орудия труда, которые бы рыхлили землю и срезали колосья; собранное зерно нужно было перевозить с полей (потребность в колесных повозках); надо было научиться его сохранять до нового урожая (надо было научиться делать прочные глиняные емкости) и, наконец, нужно было это зерно суметь обработать, суметь превратить его непосредственно в пищу. На каждом шагу нужны были все новые и новые знания, новые (великие!) изобретения, — переход от потребительного хозяйства к производящему резко ускорял прогресс практически во всех областях.
Скорость этого развития зависела от того, куда забросила судьба человеческие коллективы. Здесь несомненным преимуществом пользовались люди, осевшие в наиболее благоприятных для такого перехода местах. Это, прежде всего, Южная Евразия.
На территории современного южного Китая, было не только много воды и солнца, но и в диком виде росло растение, которое, нуждаясь и в воде, и в солнце, обильно плодоносило съедобным и очень калорийным зерном — рис. Цивилизации, выросшие на возделывании этой поистине драгоценной культуры, до сих пор называются «рисовыми».
Другим очагом производства продовольствия стал район так называемого «плодородного полумесяца», который тянулся от Нила через Палестину до Тигра и Евфрата. Климат здесь мало подходил для рисоводства, зато в этом районе в изобилии росли дикие засухоустойчивые злаки — пшеница, рожь, ячмень, овес. Они-то и стали основой здешних цивилизаций — Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Хеттское царство, Израиль, Египет, а позже цивилизации Средиземноморья — Финикия, Крит, Греция, Рим.
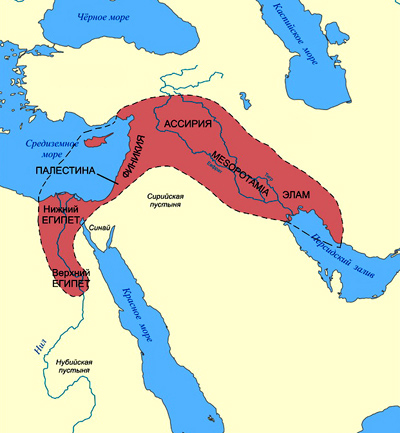
И, что очень важно, здесь водились звери, которые были пригодны для одомашнивания и содержания их при человеке — лошади, буйволы, коровы, ослы, овцы, козы, свиньи. И это было не только молоко и мясо. Лошади и буйволы были тяглом — животными, которые могли тянуть за собой соху, делать борозду, рыхлить почву для посадки зерна будущего урожая, могли перевозить урожай.
Остальным регионам повезло значительно меньше. В центральной и северной Евразии производящее хозяйство поначалу давало лишь чуть больше, чем охота и собирательство (слишком холодно, слишком сухо). В Австралии, которую от остального мира отделило море, переход к производству продовольствия практически так и не произошел. В Америках, которые тоже оказались в изоляции, научились выращивать съедобные растения, в Евразии неизвестные. Но там не нашлось животных, способных стать тягловой силой тамошних цивилизаций. Американцы проявляли чудеса изобретательности в одомашнивании диких растений и выращивании своих урожаев, в организации своих обществ, но одной мускульной силы было мало для того, чтобы заочно конкурировать с евразийцами, обеспеченными самой природой — и высокоурожайными культурами, и тягловыми и военными животными. ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ
Азиатские цивилизации (Китай, Индия и цивилизации «плодородного полумесяца»), разделенные непроходимыми тогда горами и пустынями, тысячелетия существовали в изоляции друг от друга. Тем не менее, у них были общие черты, которые позже позволили назвать их «Востоком».
А первым зародышем цивилизации, которую можно было назвать «Западом», стала в 6-5 веках до н. э. Древняя Греция. Здесь в целом ряде городов-государств была опробована еще невиданная система управления — демократия, здесь впервые появились общие для всех законы, здесь появилась философия, литература, которую можно читать и сегодня, театр, спортивные состязания.
Греция столкнулась с Персидской державой, и эта борьба впервые была осознана, как столкновение двух непохожих и взаимно чуждых цивилизаций. Александр Македонский увлек греков в свои грандиозные походы на Восток и греческая культура, греческий образ жизни распространились по всему Ближнему Востоку.
А на западе, в Италии, уже поднималась новая сила — Рим. Его суровая, в высшей степени организованная, жесткая и сложная демократия сумела выстроить государство, основанное на законе и порядке.
Его легионы распространили власть Рима на все Средиземноморье, а затем и почти на всю западную и центральную Европу. Римская империя дошла до границ, переходить которые уже не имело смысла. Завоеванные народы постепенно растворялись в Империи, и через какое-то время обитатели всей Италии, Испании, Северной Африки, Балкан получали римское гражданство. Для того, чтобы эффективно защищать «римский мир», империю разделили надвое. Столицей Восточной части империи стал Константинополь.
И здесь в жизни Рима произошел духовный, религиозный переворот, который во многом определил дальнейшую судьбу Западного мира.
В Палестине жил тогда народ, который — единственный в тогдашнем мире — исповедовал единобожие — иври, евреи. Но их религия, иудаизм, не предусматривала широкого распространения — «чужаков» евреи к своим общинам не подпускали, с иноверцами старались не общаться. Но в 1-м веке внутри него зародилось учение, которое утверждало, что ожидаемое евреями пришествие Спасителя мира уже произошло, что проповедник Иисус из Назарета, казненный римлянами по требованию еврейской общины, и был долгожданным Мессией, Сыном Божиим, что Он принес в мир Новый Завет, в котором уже не было запрета на распространение веры среди других народов.
В конце 1-го века в Палестине вспыхнуло антиримское восстание, которое римляне подавили с присущей им жестокостью — единственный иудейский Храм был разрушен, а непокорный народ изгнан с родины. Вместе с правоверными иудеями изгнанниками оказались и евреи-христиане, которые разнесли «Благую весть», рассказы о жизни и смерти Иисуса, Евангелия по всем уголкам Империи.
Их странная вера в распятого на кресте Бога, Его проповеди, записанные учениками, неожиданно оказались столь притягательными, что христианами становились все новые и новые тысячи вчерашних язычников. Римские власти пытались бороться с отступниками от «веры отцов», христиан распинали вдоль дорог, сжигали, бросали на съедение диким зверям в цирках — все было напрасно, их мученичество только множило ряды ревнителей новой веры. Наконец, в 4-м веке запрет на исповедование христианства был снят. Более того — императоры с семьями крестились вместе со всеми и становились покровителями этой религии. Глава городской христианской общины, епископ Рима, получивший духовную власть от ближайшего ученика Иисуса, апостола Петра, стоящего с ключами у врат рая, стал «папой» — наиболее чтимой в Церкви фигурой.
Но с 4-го века климатические перемены вызвали «великое переселение народов», движения скотоводческих кочевых племен Центральной Азии, которые наступая друг на друга, наталкивали племена на старые земледельческие империи — Китай и Рим.
О том, что произошло дальше — этому и посвящен Курс.
(7-10 века) Хазария
(800) Карл Великий объявляет о воссоздании Западной Римской империи
(802) В Камбодже создается Ангкорское королевство
(809) Арабский халиф Гарун аль-Рашид основывает центр переводов античных авторов, постепенно заполняющего приданную ему библиотеку
(812) Китайские власти вводят в обращение первые в мире банкноты (бумажные деньги)
(821) Три внука Карла Великого разделили между собой его империю. Зарождение германского, итальянского и французского государств
(859) В марокканском городе Фес основан первый в мире университет — Аль-Карауин
Монахи и монастыри в Европе в Средние века
(862) Летописная дата «призвания варягов» в Ильменские земли
(896) В Европе появляются венгры (мадьяры)
(9-11 века) «Эпоха викингов»
(988) Крещение Руси. Князь Владимир Святославич
(начало 11 века) В Японии написаны романы «Гэндзи-моногатари» и «Записки у изголовья»
(1054) Раскол христианской церкви на православие и католичество
(1048-1131) Жизнь Омара Хайяма
Конец 11 века — появление в Европе первых университетов
(1096—1099) Первый Крестовый поход европейского рыцарства и образование христианских королевств в Палестине
(1169) Взятие Киева Андреем Боголюбским, разграбление города и увод части населения во Владимиро-Суздальскую землю
(1118—1170) Судьба. Томас Бекет
(1180—1185) Война самурайских кланов в Японии и установление в стране власти сёгунов из рода Минамото
(1182) Резня католиков в Константинополе
(1118-1185) Судьба. Андроник Комнин
(1185) Неудачный поход северского князя Игоря на половцев (сюжет «Слова о полку Игореве»)
(1187) Саладин отвоевал у крестоносцев Иерусалим
(12 век) Начало экономического и политического взлета Венецианской республики
РУСЬ НАКАНУНЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
Новгород
«Древнерусский князь не воплощал всей полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли… При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде Православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече ничуть не более князя обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой» [городской «верхушкой»], вечем и «владыкой» [главой новгородской епархии] давало здесь больше возможностей для личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве»
(Георгий Федотов, историк)
«…Те земли русские, кои остались нетронутыми ни татарами, ни соседями, устояли и развились на просторе собственными своими силами, как бы в доказательство того, что способен совершить русский человек, когда он может располагать собою: Новгород и Псков останутся навсегда единственным проблеском в этом тысячелетнем мраке русского бытия. Но как дорого заплатил Новгород за эту чистую славу, которою он озарил историю русского народа! Царь Иван Васильевич, бешено-жестокий, и которого снисходительная история назвала только грозным, отмстил по-своему Новгороду за отступление от общего порядка»
(Николай Тургенев, декабрист)
Юго-Запад
Имеющим понятие о «Слове о полку Игореве» будет небезынтересно узнать, что сталось с детьми главного его героя князя Игоря Святославича на Юго-Западе Руси, а заодно почувствовать обстановку в Галицкой земле. Галичане пригласили к себе на княжение сразу троих Игоревичей, но они, желая подавить оппозицию своей власти, повели против своих бояр настоящую войну на истребление, и убили их, по свидетельству летописи, до полутысячи. С рук это им не сошло, — они были схвачены и повешены.
Северо-Восток
Для истории России в ее нынешних границах, для истории великороссов особый интерес представляют порядки, характерные для северо-восточной окраины Древней Руси.
По поводу географической, природной обособленности северо-запада от киевского центра Руси можно вспомнить историю из былины об Илье Муромце, — о том, какие подвиги богатырские пришлось ему совершить, когда он решился кратчайшим путем проехать со своей родины в столицу:
«А проехал я дорогой прямоезжею
Из стольного города из Мурома,
Из того села Карачарово».
Говорят тут могучие богатыри:
«А ласково солнце Владимир князь!
В очах детина завирается:
А где ему проехать дорогу прямоезжую;
Залегла [заброшена] та дорога тридцать лет
От того Соловья-разбойника».
К этому же можно добавить, что часть этих глухих вятичских лесов сохранилась и поныне под названием «брянских» (Брянск — Дебрянск), которые и через тысячу лет представляли собой надежное укрытие для населения во времена вражеского нашествия и прославились в последней войне как крупнейшие партизанские районы.
Тема Обособление дает материал и для знакомства с долгой дискуссией великорусских и украинских историков по поводу национальной принадлежности «киевского наследства».
Вот взгляд на события тех веков Василия Ключевского:
«…Русская народность, завязавшаяся в первый период, в продолжении второго разорвалась надвое. Главная масса русского народа, отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность и, вооружив ее силой сплоченного государства, опять пришла на днепровский юго-запад, чтобы спасти остававшуюся там слабейшую часть русского народа от чужеземного ига и влияния».
Украинские историки, напротив, утверждают, что прямыми наследниками Киевской Руси являются именно украинцы, что «приписывать киевскому периоду центральное место в истории России значило бы не только приуменьшать самобытный вклад поляно-украинцев, но и обременять прошлое русского народа, так сказать, бесплатным приложением, мешающим поиску собственных корней. Уж если на то пошло, и у киевской «государственности» были куда более прямые наследники, чем Ростов, Суздаль, Владимир, Тверь и Москва. Куда более важную и значительную часть киевского наследия сохранили Галицко-Волынское княжество и за ним — Великое княжество Литовское с его сильным украинским и белорусским элементами.
Каково же … отношение истории России к истории Киевской Руси? Точно такое же, каково отношение истории Франции к истории Римской империи. Как Галлия — бывшая провинция Рима — обязана ему многими элементами своего последующего общественно-политического уклада, законодательства и культуры, так же точно многим обязана Киеву Москва. Но второй акт той исторической драмы, начало которой было положено в Киеве, разворачивался вовсе не в Москве. Московский период не был продолжением киевского. И хоть Москва многое позаимствовала у Киева, настоящее объяснение ее истории … следует искать путем внимательного изучения географических, политических и этнических условий Северо-Восточного региона».
Это изложение взгляда крупнейшего украинского историка начала 20 века Михаила Грушевского современным канадско-украинским историком О. Субтельным.
Более подробный разговор вокруг этих тем — впереди (когда будут анализироваться последствия монгольского нашествия и века пребывания Северо-Запада бывшей Древней Руси в составе Золотой Орды). А пока можно закончить словами того же Субтельного:
«Короче говоря, все эти «споры о наследстве» доказывают лишь одно — а именно то, насколько трудно отделимы чисто научные проблемы от политических и идеологических, когда речь заходит об истории Киевской Руси».
Представления о том, каким должно быть общество, как должно быть устроено государство, складывались на Руси (как и везде) на примерах прошлого и современности. Востоку с его древней культурой и огромным историческим опытом было чем поделиться с «новичком», но влияние его в то время было, по-видимому, весьма слабым — культурные и политические центры Востока от Руси были далеко, а затем прибавилась и религиозная отчужденность. Так что, наибольшее воздействие шло с двух направлений — из западной Европы и из Византии.
ИМПЕРИЯ РОМЕЕВ И РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Нам меньше всего хочется, чтобы Византия предстала лишь в качестве некоего абстрактного образца для сравнения или шаблона, который можно лишь прикладывать к современным ей, но выжившим обществам. Вот отрывки из книги французского византиеведа Диля, которые могут дать хотя бы отдаленное представление о богатстве, многообразии, многокрасочности жизни в правление императоров из рода Комнинов (12 век):
«…Комнины проявляли большое внимание к церкви. Они с одинаковым усердием подавляли и ереси, и свободную мысль, когда эта последняя проявилась в возрождении платоновской философии в стенах Константинопольского университета. Они тщательно следили за нравами духовенства… увеличивали в Константинополе количество благочестивых учреждений: монастырей, больниц, церквей… Наконец, можно назвать немного дворов, столь изящных и утонченных, как двор Комнинов. Влахернский дворец в глубине Золотого Рога, куда императоры перенесли свою резиденцию, был, по свидетельству современников, чудом роскоши и красоты. Здесь вокруг государя… собиралось общество, поглощенное развлечениями и праздненствами, были позаимствованы даже некоторые излюбленные развлечения Запада, например турниры и мистерии [своеобразные спектакли религиозного содержания]; в этом обществе большое место занимали интриги и авантюры, женщины блистали там своим кокетством и изяществом, и весь этот юный, пылкий и полный страстей мирок равно интересовался как истинной наукой, так и оккультизмом, магией и астрологией…
Началось подлинное возрождение классического духа и античной традиции. Императоры оказывали покровительство ученым и эрудитам, богословам и риторам, чье красноречие было украшением всех торжественных церемоний, а также придворным поэтам… Искусство с неменьшим блеском продолжало традиции предшествующего столетия, и его влияние распространялось из глубины Востока до крайних пределов Запада. …Еще поныне собор святого Марка в Венеции со своими пятью куполами, богатством мрамора и серебряных и золотых украшений, красотой своей мозаики и пурпурно-золотым мерцанием, озаряющим его своды, дает наиболее точное представление о блеске Византии в эту эпоху… Константинополь возбуждал восхищение всего мира, и все те, кто побывал в нем, возвращались ослепленными его великолепием…
Но это было опасное благоденствие, ибо наряду с восхищением оно возбуждало всеобщую зависть и дорого обошлось империи в момент, когда обнаружилась ее слабость».
Из одного этого описания можно себе представить отношение константинопольцев к варягам-русам, периодически появлявшимся под стенами города во главе «охочих людей» из северных лесов — не только как к варварам, но и как к совершенным дикарям.
Из школьных учебников обычно можно вынести только одно впечатление о русо-славянских походах на Босфор: византийцы «наших» ужасно пугались, трепетали, и всё боялись, как бы они не захватили их[него] Константинополя. Здесь и Александр Сергеевич внес посильную лепту — «твой щит на вратах Цареграда»! При этом надо быть в курсе, что обычай вешать на городские ворота щит знаменовал собой вовсе не знак победы, а обязательство, согласно заключенному договору, защищать город от его врагов. Ну, что могли сделать славяне даже под водительством таких лихих рубак, как варяги, самой мощной в тогдашнем мире крепости, каковой являлся Константинополь!
Чтобы несколько охладить шапкозакидательское самомнение отечественных литераторов, посмотрите описание штурма Константинополя турками, — для взятия такой твердыни мусульманам пришлось довести свое численное преимущество до 1:17, а для того, чтобы проломить хотя бы в одном месте ее стены, — специально создать и с огромными трудностями подтащить сверхтяжелую артиллерию.
Так что, — приучайтесь смотреть на исторические события здраво.
Владимир СОЛОВЬЕВ. О разделении Церкви
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО
Число самостоятельных древнерусских княжеств в накануне монгольского нашествия (250) кажется необычайно большим, а степень политической раздробленности страны — чрезмерной. Однако, сравнивая Русь и западноевропейские страны этого времени, следует отметить, что степень политической раздробленности там была выше — и выше значительно.
Мы не располагаем подобными подсчетами по крупным странам, но известно, например, что в Германии на территории одной только земли Баден-Вюртемберг располагалось более шести сотен (!) вполне независимых карликовых государств (а такие же карликовые политические партии, выступавшие за восстановление былой независимости этих микрогосударств прекратили свое существование лишь в 60-е годы 20 века).
Стоит добавить, что в это время (в 12-13 веках) европейские государства из племенных союзов, располагавшихся на определенных территориях, превратились в конгломераты феодальных мини- и микрогосударств, связанных между собой только вассальными, договорными обязательствами своих повелителей. Четко очертить территорию королевства вообще не представлялось тогда возможным, поскольку вассальную присягу королю часто приносили сеньоры, земли которых располагались в глубине другой страны, а на территории его страны были земли вассалов короля-соседа (самый яркий пример тому — более половины территории Франции было в вассальной зависимости от английских королей, а сам английский монарх, будучи «по совместительству» герцогом Нормандским, графом Аквитанским и пр., являлся в этих качествах вассалом французской короны). Эта феодальная «чересполосица» стала причиной ожесточенных и длительных войн, когда начался другой процесс — складывание национальных государств на компактных территориях.
Говоря о цеховой организации ремесленного производства в западноевропейских городах, обратите внимание, что западный ремесленник, выросший в жестких условиях цеха, из поколения в поколение воспитывался в величайшем уважении прежде всего к качеству своей продукции. Таким образом, за сегодняшними рекламными табличками на многих товарах «Европейское качество!» стоят века и века воспитания работника, до тонкостей знающего все секреты своей профессии, уважающего свой труд и гордящегося своим изделием.
С грустью можно констатировать, что в городах Руси подобной формы самоорганизации работников достаточно определенно зафиксировать пока не удалось (скорее всего, они просто не успели сформироваться до катастрофы монгольского нашествия, особенно разрушительного для городского ремесла).
О средневековой науке у нас сложилось представление, весьма далекое от реальности. Ее основой была схоластика. Сейчас под этим словом подразумевается бесплодное умствование, переливание из пустого в порожнее, задавание себе бессмысленных, лишенных практической ценности вопросов и попытки их разрешить с помощью надуманных правил. Это несколько не так, а вернее, совсем не так.
Тогдашняя наука старалась дать сокращённое, но всеобъемлющее представление о любом вопросе. Это предполагало доскональное изучение поставленного вопроса и скрупулезное рассмотрение его во всех мыслимых вариантах. У них не было никаких приборов, но была голова — и логика, основы которой разработал еще воспитатель Александра Македонского Аристотель. И тогдашние ученые довели свое логическое мышление до совершенства, до виртуозности. И именно этому они и учили своих учеников.
Соответственно и о средневековом образовании у нас сложились представления, имеющие мало общего с реальной тогдашней практикой. Мы почему-то уверены, что оно основывалось на зубрежке, механическом запоминании огромных и сложных текстов. Может быть, такое и практиковалось в монастырских школах, но сохранившаяся университетская документация показывает нам совсем другую картину.
В университетах старались установить творческий характер обучения, в котором делался упор не столько на механическое заучивание и даже не на «вопросы на понимание», а на учебные споры, дискуссии.
При выпуске из университета студенты в качестве «дипломной работы» должны были продемонстрировать не только свою эрудицию, но и способность определить свою точку зрения и умение ее отстоять под градом критики на выпускном диспуте. Важно отметить, что такие способы освоения материала широко применялись не только в математике, медицине, философии, но и на богословских факультетах. Студенты регулярно слушали открытые диспуты своих профессоров, учились конструктивно спорить сами. На богословских учебных диспутах-тренингах специально избирался один из студентов, который обязан был в споре отстаивать точку зрения дьявола (именно из средневековой университетской жизни до наших дней дошло выражение «адвокат дьявола»).
Вот выдержка из методического документа парижской Сорбонны о порядке богословских диспутов:
«Магистр студентов должен назначить вопросы оппоненту и отвечающим по крайней мере за две недели перед каждым диспутом. Если он не сделает этого и по этой причине нарушится диспут, он должен поставить две кварты вина.
…Каждое воскресенье… в капелле или другом подходящем месте должен проходить честный и полезный диспут. Он проходит так, что оппонент выдвигает главную аргументацию и приводит возражения для того, чтобы другие имели возможность выступить. И он выдвигает не более восьми положений, а каждый из выступающих должен выдвинуть три. И никто не должен приводить сдвоенных аргументов… или ведущих к невозможности доказательств. Никто не должен также объединять множество аргументов в один. Отвечающий может выставить только три заключения. Каждое из них может подкрепляться чьим-либо авторитетом и разумным доводом, если отвечающий сможет это сделать. Если же не сможет, то либо авторитетом, либо разумным доводом без заключений».
«Если магистр студентов увидит, что диспутанты плохо понимают друг друга, он должен привести их к взаимопониманию. Если он увидит, что диспутанты спорят не ради установления истины, а из тщеславия, он должен водворить молчание. Если кто-либо не повинуется магистру даже после третьего предупреждения, выраженного словами: «Я налагаю на Вас молчание», этот участник должен поставить две кварты вина в конце диспута для всех тех, кто присутствует к моменту его окончания…
…В этом доме все являются товарищами и соучениками…»
При всем при том каноническая чистота поддерживалась весьма строго, — книги, признанные еретическими, сжигались, а их авторы отправлялись на покаяние в монастыри. Характерно, однако, что при определении еретичности той или иной концепции самое весомое слово принадлежало не светским властям, а часто и не церковным иерархам, а все той же независимой академической Сорбонне.
Студенческая лирика 10-13 веков: ПЕСНИ ВАГАНТОВ
Самый популярный рыцарский роман Средневековья: 12 век. Кретьен де Труа. ИВЭЙН ИЛИ РЫЦАРЬ СО ЛЬВОМ
Мы хотели бы, чтобы в связи и с этими темами продолжилось знакомство с линией Георгия Федотова, проанализировавшего генезис свободы, характерной для современного Запада:
«…Прежде всего необходимо подчеркнуть и не уставая повторять, что свобода зарождается в Средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке…
Западная церковь пережила кризис Римской империи… Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонии», подобной византийской, но сохранила свою независимость от государства, и даже более — свою учительскую и дисциплинарную власть над ним. Однако, до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство… …Каждый человек был подданным двух царств: града Божия и царства земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение… Размежеваться было трудно… Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.
Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI-XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные устои общества, не могло быть и речи об абсолютной светской власти…
Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой [чем свобода убеждений], но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы… В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его «тело» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля…
Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий… То, что раньше было привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.
В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть «мой государь», и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они). Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним.
В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI — XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и личной свободы.. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.
Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее…
Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая Церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для «Церкви», то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. …Всевластию государства был положен предел».
11 — 13 ВЕКА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ
К объединению и централизации Англии хотелось бы добавить, что этой стране повезло с самого начала — Вильгельму Завоевателю было легче выстраивать свое государство, чем другим королям, потому, что после военного разгрома местных феодалов он имел возможность начать «с чистого листа» и продумать заранее все детали организации своей власти, не встречая сильного сопротивления владетельных аристократов. Он провел всеобщую перепись населения своего государства, чтобы никто не мог уклоняться от королевских налогов (на вопросы писцов жители обязывались отвечать чистую правду, как на Страшном суде, и поэтому эта перепись получила название «Книга Страшного суда»). При нем возводились укрепленные замки, из которых рыцари могли контролировать всю округу, но крупным владетелям они раздавались не «одним куском», а мелкими «фрагментами», расположенными в разных частях страны — ни один барон в принципе не мог создать свое собственное «государство в государстве».
Но ближайшие потомки Вильгельма, так же, как и германские императоры, погнались за миражом большой империи, поскольку в их владении находилась не только Англия, но и добрых 2/3 Франции. Они считали, что могут претендовать и на французскую корону (что и привело впоследствии к Столетней войне).
В Главе содержание самого, пожалуй, важного документа эпохи Средневековья, «Великой хартии вольностей», кратко изложено «своими словами». А вот подлинный текст ее знаменитой 39-й статьи (в переводе, разумеется):
«Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне закона… и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по закону страны».
Во время крестовых походов западноевропейцы встретились не только с мусульманским, но и с византийскими миром, — и здесь они были представителями совершенно разных традиций:
«Характерен эпизод, произошедший на церемонии принесения крестоносцами клятвы верности императору [в константинопольском дворце басилевса]. В отличие от французского короля, который считался «первым среди равных», в византийском императоре… его подданные видели своего неограниченного господина, священную особу. Эти представления поддерживались весьма сложными пышными церемониями. При появлении басилевса следовало пасть ниц, в его присутствии нельзя было сидеть. Латиняне не только отказались исполнять унизительные процедуры, но и один из них, граф Роберт Парижский, на глазах у всех уселся на императорский трон. Когда его попросили встать, сказав, что «не в обычае у басилевсов, чтобы подданные сидели рядом с ним», то Роберт ответил: «Что за деревенщина! Сидит один, когда вокруг него столько славных воинов». Зерна неприязни между Востоком и Западом начали прорастать во время Первого крестового похода». «Византийцы считали западных рыцарей… грубыми, наглыми, невоспитанными и необразованными людьми, а люди Запада видели в греках лукавых, вероломных рабов».
(«История средних веков» А. Гуревич, Д. Харитонович)
Когда разговор зайдет о Тевтонском ордене — будьте осторожнее. Привычный для нас образ могущественного врага, вынашивающего завоевательные планы в отношении Руси, несколько блекнет после ознакомления с реальными силами северных крестоносцев и историей их столкновений с соседями. Сотня рыцарей (численность ордена в середине 13 века) — это не та сила, с которой можно было планировать широкомасштабные наступательные операции против даже одного Новгорода. К тому же большая часть орденских сил была постоянно связана на других границах — против агрессивно настроенных литовцев, неоднократно наносивших крестоносцам чувствительные поражения в военных столкновениях (не говоря уж о регулярных восстаниях не желавших креститься пруссов, поголовно вырезавших при этом все христианское население края).
Обвинения в тотальном уничтожении племени пруссов также вряд ли обоснованы. Насильственная перемена религии привела в конце концов к культурной ассимиляции, а не к физическому вымиранию коренного населения. Этой ассимиляции во многом способствовали многочисленные школы, вся система образования, созданная крестоносцами. Пруссов посылали учиться и в европейские университеты: до начала 16 века университетское образование получили более четырех тысяч пруссов, а до 1420 года только в Пражском университете (одном из лучших в тогдашней Европе) преподавало более 80 профессоров-пруссов из числа вчерашних язычников, присланных Орденом в Чехию для получения образования.
История прибалтийских орденов нашими историками пока толком не написана. Повременим с оценками.
Сергей Соловьев. О Тевтонском ордене в Пруссии
«Откуда есть пошла Русская земля…»
РУСЬ НАКАНУНЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
Обособление. К 13-му веку на территории Древней Руси можно было насчитать до двух с половиной сотен самостоятельных княжеств. Становились все более заметными различия между ними. Постепенно выявились три области, которые отличались друг от друга и традициями внутренней жизни, и внешней ориентацией — Север (Новгородские земли), Юго-Восток (Галицко-Волынские княжества) и Северо-Восток (Владимиро-Суздальское «залесье»).
Древнерусское искусство накануне монгольского нашествия
Перестали снаряжаться грандиозные военно-торговые экспедиции в Византию, «из варяг в греки», соответственно, упало значение днепровского центра — Киева. Но слава и богатства «Господина великого Новгорода« не оскудели.
В Европе начался хозяйственный подъем, все оживленнее становилось на торговых трассах в северных морях. Вступили в пору расцвета десятки европейских городов, которые отвоевали у своих сеньоров независимость, право на самоуправление и получили от королей и германского императора вольности и привилегии. Росло ремесленное производство, скупались продукты и изделия окрестных областей и все это с выгодой перепродавалось на отдаленных ярмарках.
На Балтике сложился мощный торговый союз городов — Ганза, — который сумел ко взаимной выгоде обеспечить купцам в этом районе безопасность и защиту. В эту широкомасштабную торговлю на севере Европы активно включился и Новгород. Все меньше занимает новгородцев жизнь Руси к югу от их обширных владений — их материальные интересы находятся в Европе, их представления об общественной жизни складываются на основе западного опыта.
Внутренние новгородские порядки всегда сильно отличались от общерусских, а с течением времени Новгород все больше становился похож на современные ему западноевропейские города. Во многих древнерусских городах было вече (общее собрание жителей) и устойчивая система местного самоуправления, но нигде сила и влияние их не были столь велики, как в Новгороде. Князь-рюрикович никогда не был для новгородцев авторитетом, они не позволяли ему вмешиваться в свои внутренние дела, его даже не всегда пускали жить в город, предоставляя ему резиденцию за крепостными стенами. Князь здесь был лишь военным специалистом и командующим городским ополчением — не более того.
Также и местные боярские роды не имели в Новгороде такого влияния, как в других русских землях. Всеми делами фактически заправляло богатое купечество, которое, опасаясь бунтов, учитывало интересы и городских ремесленных кварталов. Новгород с его выборным руководством был фактически городом-республикой и обладал всеми правами и вольностями западноевропейских городских коммун.
Очень осторожно вынуждены были себя вести и князья, которые оказывались на «столах» в юго-западных княжествах — в Галицко-Волынских землях. Здешнее боярские роды были многочисленны, богаты, авторитетны и своевольны, многие бояре содержали даже свои собственные боевые дружины. Не раз бывало, что князь, который «думы не любил с мужами своими», вынужден был от «своих мужей» спасаться бегством в соседние Венгрию или Польшу. Бывало, что князья, пытавшиеся силой истребить непокорных бояр, кончали жизнь в петле; был даже случай, что в князья был избран не природный рюрикович, а местный боярин.
Неудивительно, что западнорусские князья всячески заботились о развитии городов — своих естественных союзниках в борьбе с местными «сеньорами». В 12-13 веках в Галиции и на Волыни было основано множество новых городов, в которые устремились ремесленники и купцы не только из Поднепровья, но и из Германии и Польши.
Несколько иной уклад жизни складывался на северо-восточной окраине страны — во Владимиро-Суздальских землях. В пору расцвета Киева район этот считался «медвежьим углом» Руси. От благодатного юга его непроходимой стеной отделяли дремучие леса, населенные непокорными племенами вятичей. Но постепенно этот край становится все многолюднее, начинается активная распашка «залесских» полей, появляются новые «городки». Здешний князь Юрий Долгорукий еще чтил заветы старины, еще ценил Киевское Великое княжение, усиленно добивался его и, сев на киевский престол, назначил управлять его пригородом своего сына Андрея.
Андрею же южные порядки пришлись не по нраву — князь среди бояр и «старшей» дружины был всего лишь первый среди равных — и он сбежал на свою родину, в Ростово-Суздальскую землю. Когда же, в свой черед, он пришел под стены Киева за титулом Великого князя, то безжалостно разорил «мать городов русских» и награбленное вместе с огромным «полоном» киевлян вывез в свою «отчину». Там Андрей (прозванный Боголюбским) устроил все в соответствии со своим самовластным характером. Столицу своего княжества он перенес подальше от суздальского и ростовского боярства и веча в маленький городок Владимир-на-Клязьме, изгнал своих родственников-соправителей, окружил себя многочисленным двором и поручил управление всеми делами своим слугам, которые целиком от него зависели и беспрекословно повиновались княжьей воле.
Но первая попытка самодежавства дорого обошлась князю — его убили заговорщики-бояре, а когда весть о его смерти распространилась в городе, владимирцы устроили погром его слугам-управителям («домы пограбиша, а самех избиша»).
Брат его, известный в истории как Всеволод Большое гнездо, не уступал Андрею во властолюбии, при этом он превосходил родича талантами правителя. Его тяжелую руку скоро почувствовали на себе почти все русские княжества и даже Новгород. Казалось, что вновь наступили времена единства рюриковичей под властью «старейшего» князя.
Но после смерти Всеволода его наследники не сумели удержать в своих руках бразды правления огромной территорией, их дружины были разгромлены соседями, и они уже не могли претендовать на руководство всей Русью.
И на юго-западе появлялись мощные князья, которым удавалось распространить свое влияние на обширные территории, но и здесь дело этих объединителей пресекалось после их смерти.
Власть в Древней Руси. Периодическое появление сильных князей, подчинявших себе соседей, могло в будущем привести к образованию на Руси единого государства (или нескольких больших государств). Но для этого будущие объединители страны должны были обладать не только военной силой, но и государственной мудростью — терпением и выдержкой, способностью смирять свои самовластные порывы, умением учитывать и примирять самые разные интересы.
Влияние этих сильных князей за пределами своего княжества не было безраздельным господством. «Младшие» князья вынуждены были считаться с более сильным партнером, но одновременно были уверены в своих правах на собственное княжение. Они со своими дружинами ходили вместе с ним в походы на их противников, но были вполне самостоятельны в своих собственных уделах.
Не были всевластны князья и внутри своих уделов. Силой, которая сдерживала самовластье князя, была его дружина и, в особенности, самая влиятельная ее часть — «старшая дружина». Без их ведома и согласия князь не мог принять серьезного решения, например, о военном походе — бывало, что дружинники отказывались идти в поход, который не был с ними заранее согласован («А собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе, мы того не ведали»).
«Старшие» дружинники и местные бояре добивались от князей наделения их обширными земельными участками. Князь остерегался затрагивать права своих соратников распоряжаться в пожалованных им вотчинах, и они постепенно становились их наследственной собственностью. Тем самым дружинники, бояре, окружавшие князя, становилось материально от него независимыми.
Эти боярские вотчины с каждым новым поколением все больше дробились (также, как и княжества рюриковичей), поскольку делились между всеми сыновьями, которые все являлись наследниками.
Другой силой, с которой вынужден был считаться даже самый сильный князь, был город. В самые критические моменты горожане выставляли на подмогу дружине свое ополчение («тысячу»). Города в решении своих внутренних дел были довольно самостоятельны, они имели не только права, но и реальную силу, идти против которой было опасно — неугодный или неспособный князь мог быть изгнан из города и лишен престола. Мощный князь мог на время подавить самостоятельность городской общины, но сразу же после его смерти созданная им система самовластного управления была обречена на разрушение.
ИМПЕРИЯ РОМЕЕВ И РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Византия. В первые два века нового тысячелетия Империя ромеев по-прежнему оставалась самой могущественной, самой богатой, самой культурной державой западной Евразии.
Константинополь, расположенный на стыке Азии и Европы, на перекрестке всех мировых торговых путей, был колоссальным центром продаж и перепродаж всего, что производилось во всех странах света. Оборотистые византийские купцы в огромных количествах скупали массы самых разных изделий и торговали ими во всех известных уголках Европы, Азии, Африки. Византийские ремесленники были непревзойденными мастерами своих дел — их продукция тут же находила самый широкий спрос.
Современники говорили, что двумя третями мирового богатства владеют ромеи, а оставшаяся треть рассеяна среди остальных народов.
Это были «золотые века» и для духовной культуры. Самые знаменитые ученые преподавали в Константинопольском университете студентам, которые съезжались туда со всех концов Европы. Писатели, поэты, историки, философы, проповедники, художники, архитекторы Византии сохраняли и распространяли греческие античные традиции. Глубокое постижение христианских ценностей дошло до нас в иконах, мозаиках, фресках, церковной архитектуре, богословских сочинениях византийцев.
Свои огромные доходы Империя тратила, прежде всего, на свои вооруженные силы. Византия постоянно держала многочисленную и хорошо обученную сухопутную армию (которая — единственная из всех — выдержала удар мусульманского войска). Византийский флот был самым мощным и боеспособным во всем тогдашнем мире.
Несколько веков никакие враги не могли противостоять самому эффективному (и секретному) оружию того времени — метательному «греческому огню», сжигавшему неприятельские корабли, едва они приближались к военным судам византийцев.
Но не только военная мощь была основой внешней политики Империи. Византийские дипломаты были непревзойденными мастерами интриг — тонких, коварных и далеко просчитанных. Никто не мог так искусно расстраивать союзы враждебных государств и племен, так ловко и щедро подкупать возможных противников.
Внешние успехи и внутренняя прочность державы объяснялись прекрасной организацией централизованной власти. Все население, все его дела и занятия плотно контролировали многочисленные и дисциплинированные чиновники. Ни о каком самоуправлении населения и речи быть не могло — Византия управлялась посредством хорошо отлаженной машины бюрократии.
Единственным человеком в государстве, имевшим право принимать самостоятельные решения, был император (по гречески — басилевс). Во всей империи не было никого, кто имел бы законную возможность противодействовать желанию и воле самодержавного государя. Отношения между подданными регулировались обязательными для всех законами, но решения императора были выше любого закона. Басилевс был хозяином жизни и смерти любого подданного его государства — от крестьянина до высшего военачальника. Он одновременно был главой правительства, единственным законодателем, высшим судьей и верховным главнокомандующим.
Вместе с античным язычеством ушли времена официального прижизненного обожествления императора, но каждый новый басилевс получал от константинопольского патриарха благословение на власть и считался после этого избранником Божьим, Его полномочным наместником на земле. Он как бы сам становился земной частицей божества, — его изображали с нимбом, небесным сиянием вокруг головы; его статуям воздавались те же почести, что и иконам.
Но в Византии не было четкого закона или устойчивой традиции наследования императорской власти. По смерти прежнего басилевса кандидатура нового властителя обсуждалась наиболее влиятельными людьми Империи и утверждалась церковью. В принципе право на трон имел каждый, и путь к власти открывала смерть прежнего императора (были императоры греки, сирийцы, славяне, армяне; сыновья аристократов, конюхов, солдат и т. д.). Поэтому из 109 басилевсов, правивших Византией за тысячелетие ее истории, своей смертью в императорском сане умерли лишь 34, — остальные были убиты, ослеплены или насильно пострижены в монахи.
К концу 11-го века Византия, однако, начала слабеть из-за внутренних неурядиц. Императоры попытались использовать военную мощь Империи для грандиозных завоеваний в Европе и Азии, но эти войны оказались слишком разорительными для страны — силы ее истощились: население было задавлено непосильными налогами, замирала торговля, казна стала пустеть. На этом фоне всеобщего недовольства подняли голову крупные провинциальные землевладельцы, объявлявшие о независимости своих областей. А тут еще с востока подошли турки-сельджуки, они разгромили Халифат и захватили большинство азиатских провинций Византии, — остановить их удалось только на самых подступах к Константинополю. С запада усилились морские набеги викингов. Богатейшая Империя, надорвавшая свои силы, стояла на грани распада.
Раскол христианской церкви. Во времена, когда Римская империя разделилась на Западную и Восточную, в единой христианской церкви появилось два соперничающих «придворных» епископства — римское и константинопольское. Епископ Рима стал именоваться папой римским, а епископ столицы Восточной империи — патриархом константинопольским.
И на востоке, и на западе богословы пытались осмыслить учение Христа, понять устройство христианского мироздания, применить заповеди Иисуса к реальной, земной жизни людей, разработать правила богослужений. Их выводы и построения несколько отличались друг от друга, и эти различия с течением веков становились все заметнее.
Богословские дискуссии того времени довольно сложны, запутаны и трудны даже для религиозного человека 21-го века. Здесь достаточно сказать, что в восточном христианстве особое значение придавалось интуитивному, мистическому пути познания Бога, оно сложнее, тоньше, изощреннее. Западное восприятие — логичнее, «телеснее», богословие там стремилось приблизить вероучение к земному человеку, приспособить его для массового понимания.
Для рядового христианина, далекого от богословских споров, существенной была разница в обрядах. Богослужения в западных храмах велись только на латыни, и лишь в своих проповедях священники обращались к прихожанам на их родном языке. Службы в восточных церквях звучали на местных, понятных всей пастве языках.
На западе церковные службы сопровождались органом, а восточные христиане посчитали орган инструментом языческим, и в их храмах звучало дивное хоровое многоголосие.
Растущее непонимание между Римом и Константинополем не было чисто богословским, — к нему примешивались политические мотивы.
Византийская церковь изначально была подчинена императору. Он ей покровительствовал, но и активно вмешивался во все ее дела — не только в организационные, финансовые, но и в богословские. Для римских первосвященников признать главенство константинопольских патриархов означало подпасть под сильное влияние басилевсов, стать проводниками их экспансии в Западную Европу. Такая роль папство не устраивала.
Римская церковь после развала Западной империи стала играть в Европе «варварских королевств» вполне независимую, самостоятельную и очень важную роль. Авторитет римского папы в Европе стоял на недосягаемой высоте. Это позволяло строить далеко идущие планы создания всеобщей христианской империи под управлением наместника св. Петра.
Соперничество церквей Рима и Константинополя сильнейшим образом повлияло на исторические судьбы народов, принимавших христианство в эту эпоху. Ареной этого соперничества стал, в особенности, славянский мир, оказавшийся расколотым между двумя церквями.
Богословские и политические пути римской и константинопольской Церквей окончательно разошлись к середине 11 века, — по внешне незначительному поводу папа и патриарх прокляли друг друга и разорвали официальные отношения [тогдашние взаимные проклятия были официально сняты обеими церквями только в 1965 году]. Разорванными оказались и связи государств, крещенных от «греков» и «латинян», взаимное отчуждение их народов ощущается до сих пор.
(1054) Раскол христианской церкви на православие и католичество
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО
Христианство и общество. Западноевропейское общество с самого начала формировалось как общество христианское. Более того, — государства в западной и центральной Европе создавались, как государства христианские.
Германские вожди очень нуждались в римской церкви. Их соплеменники не привыкли подчиняться писаным законам, — они признавали только личные отношения со своими предводителями. Именно на этих личных отношениях и выстраивались новые государства. Каждый свободный должен был найти себе господина, которому он согласился бы подчиняться, и поклясться ему в верности. Господин, со своей стороны, обязывался защищать того, кто отдался под его покровительство. В свою очередь, он приносил клятву верности вышестоящему господину, а тот — королю.
Вся эта сложная система подчинения была прочной только при условии абсолютной моральной обязательности, святости личной клятвы. Проблема была в том, что «предписания» племенных языческих богов действовали только между сородичами и не годились для больших, разноплеменных государств. По-настоящему нерушимой была клятва Христовым именем.
Гарантом этой клятвы выступал римский первосвященник. Опора на авторитет церкви обязывала и государей вести себя подобающим образом, — папа имел право отлучить любого христианина, какое бы положение он ни занимал, от церкви. Это была страшная кара для любого графа, герцога, короля, поскольку освобождало от клятвы верности всех присягнувших ему. Кроме того, в наказание за антихристианские действия правителя папа имел право запретить священникам проводить в его владениях все церковные службы и обряды, необходимые для христианского Спасения — такой запрет повергал население в ужас.
Политическая и языковая карты Западной Европы в Средние века походили на лоскутные одеяла, сшитые из десятков, сотен, тысяч кусочков самых разнообразных цветов и оттенков. Но все народы и государства, все группы населения внутри них объединяло католическое христианство и папский Святой престол. Именно религия и церковь создали в Западной и Центральной Европе особый и очень своеобразный мир.
Здесь все люди были единоверцами вне зависимости от национальности или положения в обществе, и все они были обязаны подчиняться одним и тем же моральным законам, а контроль за их соблюдением осуществлялся одной для всех Церковью.
Власть правителей в глазах подданных исходила из небесного источника и была священной, поскольку корону для себя и своих наследников короли (или их предки) получили из рук папы Римского — наместника Бога на земле. Правитель, не получивший благословения от Рима, не считался священной особой, и подчиняться его власти не было долгом для христианина.
Это был обширный, но в то же время замкнутый мир: иноверцам места в нем не было, на них смотрели как на опасных чужаков, каждый шаг которых по земле ведет их прямиком в ад. Общины, не признававшие власти Святого престола, не считались истинно христианскими.
В этом мире все богословы, ученые книгочеи были выше языковых барьеров, поскольку они писали, говорили и думали на богослужебном языке католичества, на языке погибшей Римской империи — латыни (человек, не знавший латыни, воспринимался как неграмотный). Практически все они были посвященными в церковный сан, что стирало между ними государственные границы.
Политическая раздробленность: вассалы и сюзерены. Во всех странах католического мира установился единый общественный порядок, который известен как вассалитет. Суть его в том, что король предоставлял в распоряжение герцогов, графов и других аристократов высших рангов земли с работающими на них крестьянами. Они приносили королю клятвы верности и обязывались оказывать ему военную помощь (тем самым они становились его вассалами), а король (сюзерен) давал клятву защищать своих вассалов. В свою очередь, крупные землевладельцы полученные от короля земли передавали в распоряжение менее родовитым, но также «благородным» баронам, рыцарям на тех же — вассальных — условиях.
Такая «пирамида» вырастала, прежде всего, из военной необходимости. Она окончательно сформировалась во времена последних набегов на Европу (мусульман, норманнов, венгров), когда стало ясно, что громить этих врагов могут только крупные отряды конных тяжеловооруженных профессиональных воинов. Вооружение и обучение их стоило дорого, и средства на это рыцари брали из тех налогов, которые платили им крестьянские общины.
Поскольку нападения с суши и с моря были неожиданными, стало необходимым во множестве строить защитные укрепления — каменные замки в сельских округах и мощные оборонительные стены вокруг городских поселений. Это военное строительство также велось на средства от налогов, собираемых с крестьян и горожан.
Одним из самых важных законов внутри этой «пирамиды» являлась формула: «Вассал моего вассала — не мой вассал». Из нее следовало, что король был не властен над бароном, сюзереном которого был герцог — вассал короля; рыцарь же, который принес вассальную присягу барону и получил от него земельное владение (феод) ничем не был обязан герцогу — сюзерену своего сюзерена-барона. Простые рыцари являлись в королевскую армию по зову своего барона, бароны — выполняя вассальную клятву герцогу, а герцог — в соответствии с вассальной присягой королю.
Укрепление таких порядков в европейском средневековом обществе в 12 веке привело ко многим важным для его будущего последствиям.
Воины-землевладельцы стали и материально, и политически независимыми. Засев в своем сильно укрепленном замке, сеньор не только контролировал крестьянскую округу, но и мог сколь угодно долго обороняться даже от крупных королевских отрядов. В результате европейские королевства раздробились на великое множество фактически самостоятельных герцогств, графств, баронств, епископств, марок и т. д.
Короли не имели никакой власти над рыцарями, с которыми у них не были заключены договоры о вассалитете, и у рыцарей было право войны с королями своей страны, если те переходили границы своей власти. Фактически в европейских средневековых странах был не один государь, а сотни и тысячи государей, каждый из которых был совершенно самостоятельным и связан обязательствами только с одним своим сюзереном.
Единственной надежной опорой королей оставались его слуги-управители (которые зачастую даже не были свободными людьми и жили при королевском дворе на положении домашних рабов). У королей была область, которая принадлежала им по наследству (домен), — эти слуги и становились управителями в этих землях.
Поместье рыцаря должно было быть достаточно большим, чтобы обеспечить его всем необходимым. Поэтому наследственные владения дробить было запрещено, — все имение после смерти отца целиком переходило в распоряжение старшего сына (такая система наследования называлась майорат). А младшие были обречены либо на бедность, либо на уход от мира. Если старшего сына родители воспитывали и обучали как рыцаря, то младший готовился к менее престижной духовной карьере — прежде всего, учился читать и писать. Майорат давал церкви постоянный приток грамотных людей, готовых продолжать свое образование.
Младшие сыновья знатных фамилий постепенно образовали тот «культурный слой», ту среду, в которой выше всего ценились знания, интеллект, образованность.
Города. Крестьянская жизнь почти целиком зависела от природы. Тяжкий труд земледельца не оставлял ни сил, ни времени ни на какие иные занятия, кроме добывания хлеба насущного. В редкие, отдаленные друг от друга сельские поселения вести доходили медленно и порой искажались до неузнаваемости, — да и вряд ли они интересовали крестьян. Сменялись поколения, а жизнь в деревне оставалась неизменной. Именно в крещеной деревне на много веков сохранились языческие верования и бесчисленные суеверия, едва прикрытые христианской обрядностью.
Горожане создавали свою среду обитания по собственному разумению и своими руками. Внутри городских стен становилось все теснее, но жизнь здесь была активной, разнообразной, насыщенной событиями. С купеческими караванами приходили отовсюду новости, будоражили умы речи странствующих проповедников, здесь, на ярмарочной площади, люди слушали и обсуждали папские послания (буллы) и королевские указы.
В отличие от деревни, которая со своим натуральным хозяйством могла прожить совершенно автономно от остального мира, городские ремесленники работали на продажу, на рынок. Богатство города, благополучие его жителей в сильнейшей степени зависели от той обстановки, которая складывалась за его стенами.
Нигде в тогдашней Европе не было сильного государства, способного защитить интересы городов и торговли, пресечь произвол сеньоров, некому было организовывать и регулировать ремесленное производство и определять правила торговли, — все это надо было делать самим. Здесь, в городах, проявлялась способность людей к самоорганизации, к согласованным коллективным действиям.
Ремесленники объединялись в цеха, вырабатывали сложные и жесткие правила производства и реализации готовой продукции. Профессиональные цехи — основа городской жизни, и на этой основе вырастала вся система городского самоуправления. Выборы цехового руководства, выборы руководителей города, выборы судей стали нормой для городских жителей Западной Европы.
10-й век для Европы был полон военных тревог и опасностей. Нападения норманнов и венгров, слабость королей вынудили города искать защиты у местных сеньоров-рыцарей. Но век 11-й выдался относительно спокойным и мирным, а потому горожане не видели больше смысла дорого платить за свою оборону и мириться с произволом своих графов, герцогов и епископов. А те, в свою очередь, не собирались отказываться от возможностей «стричь» быстро богатеющие центры торговли и ремесла. Поэтому в 11-12 веках по Западной Европе прошли волны кровавых столкновений городов с их сеньорами, получившие название «коммунальных революций».
Горожане сумели организовать и вооружить городское ополчение, отстроить и укрепить оборонительные сооружения вокруг жилых кварталов. Это позволило им противопоставить силе — силу, и не только отбиться от неугодных сеньоров, но и во многих случаях заставить их признать бывший «его» город самостоятельной самоуправляющейся коммуной. Города поддерживали стремление королей противопоставить рыцарской вольнице единый для всех общегосударственный закон, который гарантировал горожанам их с бою добытые права.
В 12-13 веках в дотоле деревенской, полуварварской Европе начинается подлинный расцвет вольных городов.
Западноевропейское искусство 11-14 веков
Университеты. Растущим городам во все большем количестве требовались юристы-законоведы, медики, учителя по всем отраслям знаний. Если в 11 веке образованные люди выходили в основном из монастырских школ, то в дальнейшем главными центрами образования и культуры стали города. Школы, которые были практически в каждом городе, начинают расширяться, приглашать для преподавания известных ученых. Постепенно такие школы превращались в автономные самоуправляющиеся корпорации, объединяющие преподавателей и студентов — университеты.
Среди университетов была своя специализация: первый европейский университет, Болонский (в Италии) готовил высококвалифицированных юристов, учившихся законоведению на основе римского права; испанские университеты хранили и развивали арабские традиции в медицине, математике, астрономии; парижская Сорбонна славилась своим богословским факультетом.
Одним из самых важных предметов на любом факультете университета была логика — наука о противоречиях и о способах их разрешения, а распространенным методом обучения были диспуты, ученые споры. Логика широко использовалась и на богословских факультетах, пристальному логическому анализу подвергались священные тексты. Не только юрист, но и богослов обязан был научиться сомневаться в, казалось бы, очевидном, искать и находить противоречия в религиозных вопросах, разрешать их и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Университет, в котором бурлили ученые споры, стал неотъемлемой частью городской жизни, а его выпускники селившиеся в городах, образовали со временем слой людей умственного труда и широких интеллектуальных интересов.
Конец 11 века — появление в Европе первых университетов
11-13 ВЕКА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ
Раздробленность и объединение. Долгое время папам казалось, что церковные скрепы, объединявшие Европу столь сильны, что можно воссоздать единое всеевропейское государство под верховным, направляющим руководством Святого престола. Мечта о новой империи — наследнице и продолжательнице Римской — не давала покоя и королям. После развала империи Карла Великого императорская корона долгое время не находила достойного обладателя. В 10 веке папа возложил ее на голову победителя венгров, германского короля Оттона. Было провозглашено возрождение европейской империи под названием «Священная Римская империя», в состав которой вошли нынешние Германия и Италия.
Германия состояла из множества самостоятельных княжеств. Такая раздробленность для других государств была временной, но для Германии она стала хроническим состоянием.
Дело в том, что германские князья изначально получили очень большие права — они своего императора избирали, оговаривая при этом сохранение своей самостоятельности. А императоров интересовало больше не объединение своей страны, а соединение в одной империи германских и итальянских областей (задача, которая оказалась невыполнимой). Поэтому императоры на протяжении веков вели бесконечные и бесперспективные войны с городами и герцогами Италии, ссорились с папами — кто из них будет главнее в империи. И в погоне за блестящим миражом императоры не занимались тем реальным делом, которое занимало других европейских монархов — созданием единых национальных государств.
Французские короли понимали свои интересы более практически. Франция также оказалась раздробленной на самостоятельные герцогства, графства, баронства — дошло до того, что власть королей ограничивалась лишь окрестностями Парижа. У центральной власти пока не хватало сил, чтобы принудить привыкших к независимости вассалов, и короли вначале пошли другим путем — начиная с 11 века они начали постепенно расширять собственную территорию, домен. Где покупкой, где удачной женитьбой, а где и обманом они постепенно очень значительно «округлили» свои владения и из рыцарей, живущих на их территории, могли уже собрать сильную армию для войны с непокорными аристократами. На стороне королей были города, помогавшие им воевать с местными сеньорами, и церковь, готовившая для королевства грамотных управителей.
Централизация Англии пришла с континента. Норманны захватили северную область Франции (она и по сию пору так и называется — Нормандия), довольно скоро скандинавы «офранцузились», а затем их вождь — герцог Вильгельм — вмешался в распри враждовавших английских графств. В 1066 году норманнская армия форсировала Ла-Манш, разбила в решающей битве англичан и Вильгельм был объявлен королем Англии. С Вильгельма Завоевателя началась новая династия английских королей, а языком английской аристократии на три столетия стал французский.
(1118—1170) Судьба. Томас Бекет
Пользуясь своим преимуществом победителя, новый король заставил всех английских рыцарей и аристократов присягнуть себе на верность, установил порядок при котором подавляющее большинство судебных дел разбиралось королевскими судьями, заново, по своему усмотрению переделил земли между аристократией. Единство государства получило прочную основу. Поэтому, когда в Англии вспыхнуло возмущение неудачной политикой одного из потомков Завоевателя, речь пошла не о разделении страны, а о более разумном управлении единым государством.
В 1215 году восставшие бароны и города принудили короля Иоанна Безземельного подписать обязательства, которые во многом определили дальнейший исторический путь не только Британии, но и всей Европы — «Великую хартию вольностей» (Magna Charta). Самодержавный произвол короля ограничивался коллективным органом знати, без согласия которого государь не мог вводить ни одного важного закона, а в случае неподчинения короля специальный Комитет из аристократов получил законное право призвать народ к восстанию. В центре Хартии стояла статья, согласно которой свободный человек мог быть арестован, лишен имущества, наказан только по приговору суда, состоящему из таких же свободных и равных ему людей.
Через пятьдесят лет новое массовое восстание ограничило не только права короля, но и власть аристократической верхушки — главным законодательным органом государства стал парламент. В парламенте решения принимали не только назначенные королем аристократы, но и депутаты, которых избирали свободные налогоплательщики. Так впервые был провозглашен принцип: «Что касается всех, должно быть всеми одобрено».
Много веков потребовалось для того, чтобы эти новые принципы воплотились в жизнь государства в полном объеме. Но первый шаг к этому был сделан в Англии в 13-м веке, когда вассалы заставили монарха признать верховенство закона.
Испания несколько веков находилась в состоянии постоянной военной мобилизации и поэтому сразу организовывалась как централизованное государство под сильной королевской властью.
На Пиренейском полуострове — там, где свое привычное место ныне занимают христианские Испания и Португалия, — в начале тысячелетия продолжал существовать осколок исламского мира. Эпоха повсеместного государственного дробления не миновала и его — к середине 11 века дотоле единый Кордовский халифат распался на отдельные самостоятельные эмирства, постоянно враждовавшие между собой. Объединенные христианской идеей небольшие испанские королевства начали Реконкисту (Отвоевание), вытесняя с территории полуострова мусульман. К концу 13 века лишь на крайнем юге продолжала держать оборону мусульманская Гранада.
Крестовые походы. В последние годы 11 века в Западной Европе разворачивается грандиозное движение «паломничества за море», «странствования по стезе Господней», «пути в Святую Землю», движение, которое позже было названо «крестовыми походами». По призыву папы рыцарство двинулось в трехтысячекилометровый путь — освобождать от «неверных» (мусульман) Иерусалим.
Их тяжеловооруженным колоннам пришлось пройти через Византию. Басилевс поспешил избавиться от опасных паломников и пообещал им помощь в грядущих боях, взяв с них слово, что завоеванные ими земли на Востоке вернутся в состав Империи. Клятвы своей вожди крестоносцев не сдержали (православные византийцы для них были уже не вполне единоверцами), а ромеи отозвали свои войска из похода на Палестину — отношения, и прежде натянутые, испортились окончательно.
Неожиданно первый крестовый поход окончился удачно. Мусульмане, ослабленные междоусобицами, не выдержали напора нежданного противника. Были взяты их сильнейшие крепости. Рыцари заняли все восточное побережье Средиземного моря, и разделили эти земли между собой. И, наконец, в 1099 году штурмом был взят Иерусалим. После погромов и резни его жителей — мусульман и иудеев — покрытые кровью, но благочестиво босые «воины Христовы» плакали от счастья у Гроба Господня.
Вскоре после победоносного похода большинство рыцарей возвратилось в Европу. Многие из тех, кто остался защищать Святую землю, не выпуская из рук оружия, приняли монашество и организовали несколько своеобразных общин монахов-воинов (орденов) с очень строгими уставами (бедность, безбрачие, по 5 часов ежедневно — молитва, 120 дней в году — пост, исключающий употребление даже молока и яиц, унизительные наказания за малейшие проступки).
Один из этих орденов — Тевтонский — по просьбе польского короля с 1230 года начал перебазироваться из Палестины в Прибалтику. Там крестоносцы должны были помочь христианской Польше справиться с воинственным языческим племенем пруссов и обратить их в христианство. Германский император и польский король отказались от своих притязаний на прибалтийские земли, населенные язычниками, и предоставили эти области Тевтонскому ордену.
Через несколько лет военных действий и проповедей среди прибалтийских язычников территория Ордена расширилась, и рыцари-монахи надолго закрепились в Пруссии.
Крестоносные ордена пользовались в Европе огромным авторитетом, в них видели самоотверженный идеал земного христианского служения. На этой волне популярности крестоносного движения на западных границах Новгородской земли, в Ливонии (на территории современных Латвии и Эстонии) католический епископ-миссионер организовал местный орден, получивший название Ливонского. Он был слабее Тевтонского, территории этих орденов разделяла языческая Литва, но крестоносцы Пруссии помогали ливонцам, особенно в трудные для них моменты поражений от литовцев или новгородцев.
(1187) Саладин отвоевал у крестоносцев Иерусалим
(12 век) Начало экономического и политического взлета Венецианской республики
Читать дальше:
СЛАВЯНСТВО
Происхождение, история и самый характер славянства оказались окружены разнообразными мифами, и из идеологических кругов, где родились, проникли в толщу народную.
Мифы — явление неизбежное и неискоренимое. Из них, собственно, и состоит массовое сознание. Но из этой констатации вовсе не следует, что бороться с ними вообще не стоит. Если оставить их в покое, то они могут разрастись так, что способны будут исказить картину окружающего мира неузнаваемо.
Массовое сознание само превратит в миф любые факты, догадки специалистов или фантазии шарлатанов, а власть сама изберет и широко распространит выгодные ей мифы. Наше же дело — смотреть на любые факты трезво и пристально, в обобщениях не улетать далеко от грешной земли. В нашем случае стоит просто принять к сведению, что люди, профессионально занимающиеся славянами, находят их следы лишь с 6-го века, а откуда они вообще появились — не знают (а для догадок у историков в данном случае просто пока нет достаточно фактов).
Нам (а, вероятно, и вам) доводилось открывать «науч-поп» в котором славянская древность отважно отодвигалась вглубь тысячелетий: Ахиллес (или Гектор — уж и не припомним) оказывались славянскими богатырями; этруски объявлялись прямыми предками русских (всего-то — две буквы подчистить, а одну прибавить); знаменитые и загадочные крито-микенские тексты с легкостью расшифровываются (оказывается!) чуть ли не с помощью кириллицы; некая «Велесова книга» также повествует о чем-то весьма славянско-сокровенном… Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Если приведенные натяжки и фальшивки простосердечно-наивны и вряд ли могут стать объектом исторической дискуссии, то встречаются интерпретации и потоньше. Так, например, во вполне серьезном издании (чуть ли не в учебном) авторы следующим образом «встроили» славян во всемирно-исторический процесс: германцы разгромили Западную Римскую империю, а славянам выпало довершить «объективно-необходимую» миссию ликвидации последних следов античности, что они с успехом и сделали, до предела обескровив Византию. Это явная фактическая натяжка — и весьма сомнительная честь (но чего не сделаешь для «родственников» — «и мы пахали!»).
Другое, более устоявшееся представление, наоборот, противопоставляет славян воинственным и жестоким германцам, как людей мягких, незлобивых, пластичных, уживчивых, неагрессивных (но, как в песне поется, — «нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим»). В национальных характерах разных славянских народов сегодня, безусловно, есть что-то общее, что отличает их от западноевропейцев, латиноамериканцев, австралийских аборигенов и т. д. Но материя эта настолько условная, крайне субъективная, что говорить о ней в среде уважающих себя специалистов до сих пор считается дурным тоном. Если перечисленные особенности характера у славянства и имеются, то нет никаких оснований говорить о них, как об изначально присущих, обусловленных чуть ли не генетически.
Попадая в разные исторические условия, проходя разные этапы своего развития народы меняют свой менталитет часто весьма кардинально. Кто бы, например, узнал в добропорядочных скандинавах и датчанах агрессивных, кровожадных викингов! А если говорить о славянах, то интересно, как под эти характеристики подходят, например, буйные запорожцы Богдана Хмельницкого, воинственные чешские табориты Яна Жижки, да и сами русские, которые на своем веку (тысячелетии) наступательно воевали гораздо больше, чем немцы или даже французы (и насколько успешнее!).
Мы вовсе не отрицаем разности психологических типов различных национальных общностей, но предлагаем обращать особое внимание на их зависимость от исторических ситуаций и исторических судеб народов, а также призываем к сугубой и многогубой осторожности, к отказу от лихих обобщений в столь болезненных вопросах, в которых мы еще так плохо разбираемся.
Если вернуться к нашей теме, то поводом к противопоставлению германской экспансии на запад и славянской — на восток послужил «мирный» характер занятия славянами будущей территории Древней Руси в отличие от «грабительских» завоеваний германских племен. Давайте разберемся с этим.
О вторжении на территорию Западной империи мы знаем по многочисленным сохранившимся описаниям — германцы теснили письменный народ. И каких характеристик пришельцев можно ожидать от римлян (тем более, что разница в культурном уровне была действительно велика)? А славянские волны переселений прошли глухо, теснимыми оказались племена бесписьменные, которые не смогли передать нам весточки о том, как это происходило. В общем, можно предположить, что в этом случае дело обходилось, как минимум, без большой крови.
Перед племенами, продвинувшимися на запад, была организованная, но ослабленная система защиты, а за ней — огромные, веками копившиеся богатства античных городов. И если бы в авангарде варварской волны оказались не германцы, а славяне, неужели удержались бы они от великого соблазна сравнительно легкой и фантастически богатой добычи? А если бы германцы, подобно славянам, в своем повседневном труде полукочевых землепашцев медленно, поколение за поколением, двигались на восток, то неужели бы они предали огню и мечу таких же лесных земледельцев, охотников и рыболовов, как и они сами?
КИЕВСКАЯ РУСЬ
«В год 6367 [859]. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, и со всех кривичей. А Хазары брали с полян, с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке с дыма…
В год 6370 [862]. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
Известнейшее место из древнейшей русской летописи мы поместили здесь потому, что при изучении данной главы отрывка этого никак обойти не удастся (хотя попытки такие и предпринимались). Во времена летописания сообщение Нестора сомнений не вызывало и лишь расцвечивалось все новыми живописными «подробностями». Ситуация резко переменилась в 18 веке…
Основание государства, происхождение первой династии и его название относятся к числу «проклятых вопросов» российской историографии. В разных художественных фильмах, а то и в школьных учебниках, можно встретить по этому поводу самые разнообразные фантазии. А дело здесь не такое уж и сложное, если подходить к нему без каких-нибудь «высших» соображений.
Внесем некоторую ясность по поводу околонаучных обстоятельств этой длительной дискуссии: [Об истории вопроса о происхождении «руси»]
А нам (авторам) непонятно, почему надо комплексовать по поводу скандинавских предков целого ряда аристократических родов России. Чем хуже они славянских, половецких, финских, ногайских, немецких, татарских, датских, литовских, шотландских, эфиопских и т. д.?
Нам непонятно, отчего сегодня кому-то может быть неприятен тот факт, что князем-основателем первой династии стал не кривич, не вятич, не радимич, и даже не древлянин, а норманнский конунг (ну и что ж, что морской пират, — а человек был, может быть, хороший!). Говорить о «неполноценности» славян после итогов их более, чем тысячелетней государственной истории сейчас уже вряд ли кому может придти в голову из-за эпизода IX века (тем более, что аналогичные «призвания» случались и у других — неславянских — народов).
Разговор с историком Игорем Данилевским о первых веках Руси (фрагмент)
Мы никак не можем взять в толк, почему такую бурю возмущения у кого-то вызывает возможность скандинавского названия нашей страны. Братья-славяне болгары почему-то не комплексуют по поводу тюркского своего имени; довольны, думается, и жители северной французской провинции Нормандия (Русь с ней практически тезка). А мы, авторы, например, считаем, что с названием стране нашей очень даже повезло: Р-у-у-сь, Рос-си-и-я… — как красиво!
Николай КАРАМЗИН. О СОСТОЯНИИ ДРЕВНЕЙ РОССИИ
ЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ И РАЗДРОБЛЕНИЕ ВЛАСТИ
Обратите внимание на то, что главное событие княжения Владимира в учебнике названо «крещением Руси», и что в дальнейшем авторы упорно избегают называть происшедшее «принятием Русью христианства». Объяснимся.
Для того, чтобы проникнуть в суть основных идей Христовой проповеди, приложить ее к индивидуальной человеческой жизни и к земному общественному устройству, христианскому миру не хватило и двух тысячелетий [думаем, что не хватит и трех]. Это вероучение, несмотря на кажущуюся доступность евангельских рассказов, очень сложное, требовательное, бескомпромиссное. Для осмысления и принятия христианства человеку необходимо напряжение всех его душевных сил и очень много мужества. Веками этот тяжелый труд ума и души был делом сравнительно немногих — элиты. Долгое время лидером в этом важнейшем для европейской культуры деле была Византия, но и здесь подлинная, внутренняя христианизация не захватила массы исполняющего все положенные обряды населения.
Мы оставляем в стороне вопрос, правильно или нет поняли Христово учение различные христианские конфессии. Мы лишь констатируем, что только через полтора тысячелетия воцерковленности впервые возникло по-настоящему массовое стремление докопаться до сути своей религии и жить в соответствии с ее пониманием, — и произошло это в Западной Европе (во времена Реформации и Контрреформации).
Крещение для Руси (как и для всех окрещенных народов) было лишь самым началом длительного, глубокого и сложного процесса христианизации. В нашей стране он идет уже тысячу лет. Оценивать его сегодняшние итоги можно по-разному.
Не знаем, как вы, но мы думаем, что:
Русь-Россия — страна христианская, и даже если кажется, что по пути христианизации она двигалась слишком медленно, тем не менее, двигалась она, хоть и по своей тропе, но именно по этому магистральному пути христианской цивилизации, а не по какому-либо иному!
Крещение Руси превратило для нее весь Восток в иноверческое пространство, воздвигло на ее восточных (а позже южных) границах культурный барьер, взломать который удалось только языческой Орде (и он возник вновь, как только Орда приняла ислам). Помимо Орды, влияние Востока на православную Русь-Россию в историческом плане оказалось ничтожно малым.
Буддийский, даосский, конфуцианский, индуистский Восток, вероятно, был бы в состоянии дать молодой Руси некие образцы, но его центры были слишком далеко (русские путешественники видели в нем лишь чуждую экзотику). А Восток мусульманский, подступавший к самым границам, воспринимался как исторический противник. Века Русь прожила «сама по себе», но, когда пришло время сравнивать, соотносить себя с «другими», взгляды обратились отнюдь не на Восток…
Крещение дало Руси письменность. Учиться читать, пытаться постигать нечто, выходящее за рамки повседневности на Руси начали не по Ригведам, не по буддийским джатакам, не по конфуцианским трактатам и не по сурам Корана, а — по Библии.
Эти обстоятельства, как нам кажется, могут многое объяснить в прошлом и будущем нашей страны.
Феодальная раздробленность Киевской Руси — тема бывшая весьма популярной в сравнительно недавние еще времена, когда оценивалась раздробленность однозначно негативно.
Раздробленность — нормальное, закономерное состояние средневекового феодального общества (политическая, экономическая особость отдельных территорий очень долго сохраняется даже после образования единого государства). Считать это состояние хоть и неизбежным, но все-таки злом, могут только люди, которые смысл народной истории видят в создании и укреплении «единого централизованного государства». И совершенно не обращают внимание на то, что как раз период политической раздробленности обычно совпадает с ростом общественного богатства, с ускоренным развитием городов, ремесла и пр.
Древняя Русь, хоть и с некоторым запозданием, шла по классическому пути феодального общества. Нам трудно сейчас судить о том, что происходило тогда на Руси, но все исследователи отмечают, что в 12-13 веках и в иконописи, и в облике во множестве строившихся храмов все меньше стало чувствоваться влияние византийских образцов. Сначала в западных княжествах, а затем и по всей Руси начали писать иконы скорее в итальянских традициях, строить храмы, которых не знала Византия, но которые хорошо вписываются в развитие тогдашней западноевропейской (романской) архитектуры.
«Откуда есть пошла Русская земля…»
СЛАВЯНСТВО
Первые упоминания о племенах, в которых уже можно определенно узнать славян, появляются в 6 веке нашей эры. Тогда они жили в центральной Европе (на территориях нынешних Чехии, Словакии, Венгрии, Польши). Кто были их предки, как они здесь оказались, откуда и когда пришли они сюда — до сих пор неясно [можно считать доказанным лишь то, что славяне (как и германцы) давно уже были «местными» европейцами, их не занесло сюда вместе с волной кочевников из глубин Азии].
Славяне были земледельцы, однако назвать их в полном смысле оседлыми трудно. Они распахивали участки земли и сеяли там пшеницу, просо, ячмень, а когда почва через несколько лет истощалась, переходили на новые места. Они заранее подпиливали деревья на новом лесном участке, а когда они высыхали, то сжигали сухостой, получая золу на удобрения. Это медленное продвижение постепенно расширяло зону обитания славян.
На юге — в балканских долинах — условия для жизни были весьма благоприятны, но это была территория Империи (Византии) и она охранялась линией крепостей. С 7-го века славяне вместе с тюрками начали прорывать византийскую оборону и массами расселяться на севере Балканского полуострова (на территориях современных Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины). Проникновение же славян на восток (на земли будущей Древней Руси) было более долгим, но сравнительно мирным.
На восточной окраине Европы в это время жили финские, балтские и ираноязычные племена — такие же примитивные земледельцы, как и славянские пришельцы. Один из медленных потоков славянского переселения шел от Дуная через Карпаты к берегам Днепра. Славянские же племена, которые в будущем создадут Великий Новгород, двигались на восток с северного побережья Балтики.
В лесах и лесостепях места хватало всем, и, судя по всему, ославянивание этих краев прошло не завоеванием, а постепенной «диффузией». За несколько веков земледельческие племена восточной Европы слились («сплавились») в народ, который мы ныне называем «древнерусским».
Славянское большинство дало своим «внутренним» соседям язык, обычаи, и одновременно переняло у них многие трудовые и боевые приемы. Ужились славяне и с их богами — с балтским Перуном, с иранским Хоросом, которых веками почитали жители Киевской Руси наравне с «исконно» славянским Родом.
В среднем течении Днепра — там, где лесные чащобы постепенно переходят в ковыльную степь — долгое время не возникало ни городов, ни устойчивых племенных союзов. Это и неудивительно, — причерноморские степи вот уже много веков были торной дорогой для воинственных азиатских кочевников, которые волна за волной накатывались на Европу. Кочевые орды сметали на своем пути племена, имевшие неосторожность поселиться на степных плодородных черноземах. Но, начиная с 7-го века, этот «сквозняк» в причерноморских степях утих.
Соседи славян. Распался Тюркский каганат — огромное объединение азиатских кочевых орд. Большинство из них сгинуло после этого без следа, но две орды сыграли большую роль в ранней истории славянства — болгары и хазары.
Тюркский народ — болгары кочевали около Азовского моря и под ударами соседей раздробились, и роды их разошлись в разные стороны. Те, кто укрылись в отрогах Кавказа дали начало современным балкарцам. А часть болгар откочевала на западный берег Черного моря, завоевала там оседлых славян и очень быстро растворилась в них, оставив новому народу лишь свое имя. Еще один осколок болгарской орды продвинулся на тысячу километров к северу, и осел на слиянии Камы и Волги — со временем он создал там богатое, развитое государство — Волжскую Булгарию. В Дунайской Болгарии победили славянский язык и культура, а на Волге господствующими стали тюркские язык и традиции [волжские булгары приняли ислам еще до крещения Руси, их потомки позже составили основу нового народа — казанских татар].
А хазары сумели создать мощное государство с центром в низовьях Волги — Хазарский каганат. Хазары надолго — почти на три столетия — перекрыли путь в Европу ордам азиатских кочевников и обеспечили относительно спокойную обстановку для славян. Поэтому 9-й век стал временем образования славянских государств в восточной и центральной Европе.
Первые славянские государства. Первым крупным славянским государством стала Великая Моравия (на территории современной Чехии). Чехи и моравы приняли крещение по римскому обряду. А из Византии были приглашены греческие монахи — создатели славянской письменности, христианские просветители братья Кирилл и Мефодий. Великая Моравия стала очагом распространения «кириллицы» среди других славянских народов.
В конце 9-го века из Приуралья на запад стала откочевывать многочисленная орда венгров (она шла, гонимая другими кочевниками — печенегами). Венгры подошли к Киеву, но город сумел от них откупиться, и они пошли дальше на запад. Главный их удар пришелся по Великой Моравии, от которого она распалась. Венгры расположились вокруг озера Балатон, вытеснили тамошнее славянское население, и оттуда весь 10 век совершали опустошительные набеги на Европу (доходя даже до Испании). Со временем европейцы научились давать отпор воинственным конникам, и к концу 10 века венгры уже не решались на дальние рейды — они постепенно осели, занялись хлебопашеством и виноградарством, крестились и в 1001 году венгерский предводитель получил от римского папы королевский титул и корону.
Венгерское королевство глубоко вклинилось в славянский мир и отделило южных славян от их северных и восточных сородичей. Позже оттолкнула славян друг от друга и религиозная рознь между Римом и Константинополем, между католицизмом и православием — ведь они принимали крещение от противостоящих христианских центров.
В конце 10 века из осколков Великоморавской державы сложилось два христианских славянских государства — Чехия и Польша (население здесь крестили миссионеры из Рима).
Возникали и укреплялись славянские государства медленнее, чем германские на западе Европы. Объясняется это тем, что германские племена расселялись на территориях с давними традициями античного высокоорганизованного государственного управления, там жила память о государстве, где у большинства населения сохранилась привычка к подчинению законам государства. Большинству же славянских племен приходилось налаживать свою государственность вполне самостоятельно.
.
КИЕВСКАЯ РУСЬ
Первый росток российской государственности появился на севере — на берегах озера Ильмень. Сюда никогда не заходили кочевые орды — им было не пробиться через сотни километров лесов и болот. Далеко были и сильные державы того времени, могущие претендовать на господство над этими землями. Опасность подстерегала со стороны Балтийского моря (в разгаре была воинская активность викингов), но центр своего края жители предусмотрительно выбрали в отдалении от Финского залива — морским конунгам незаметно и неожиданно подобраться сюда было трудно. Здесь возник город, в 10 веке получивший название Новгород.
Климат и окрестные почвы земледелию не способствовали. Главными новгородскими угодьями были не пашни и пастбища, а леса и тундры Севера. Богатство края составили экспортные продукты промыслов, высоко ценимые в те времена повсюду — меха [бобровые, лисьи, соболиные, горностаевые], мед [единственный тогда сладкий продукт], воск диких пчел [восковые свечи были основным источником высококачественного освещения; в огромных количествах они требовались во всем христианском мире для церковных служб].
Жили в Приильменье разные племена — славяне, чудь, меря, весь. Хорошо были знакомы местным жителям и скандинавы. О каких-либо набегах викингов-варягов на эти районы неизвестно, можно лишь предположить, что от своих беспокойных соседей приильменцы предпочитали откупаться умеренной данью.
Мы практически ничего не знаем об обстановке, сложившейся здесь в 9 веке и можем лишь на слово верить позднейшей летописи, которая говорит о нередких межплеменных раздорах. В этих условиях приглашение князя «со стороны» было решением весьма практичным и выгодным во многих отношениях.
Торговля, особенно дальняя — было в те времена делом опасным. Отправиться без сильной охраны в ладье, груженой дорогим товаром, по рекам, через леса и степи значило обречь себя, как минимум, на верное разорение. Купеческие экспедиции больше напоминали небольшие армии, всегда готовые к бою. Они уходили все дальше, и одних «добрых молодцев» для охраны отдельных караванов становилось уже недостаточно — требовалось взять главные торговые пути под постоянный контроль и охрану на всем их протяжении. Нужен был князь с сильной дружиной.
Но признать князем кого-то из «своих» — из соперничающих племен и родов — было трудно. Легче оказалось согласиться пригласить чужака — человека без «корней», без опоры, от которого в случае чего можно было избавиться [новгородцы поступали так на протяжении почти всей своей самостоятельной истории]. На эту роль вполне подошел бродячий морской конунг Рюрик (Рорик). Согласно древнейшей отечественной летописи, случилось это в 862 году — и с этого года традиционно начинают отсчитывать время российской государственности.
Согласно той же летописи, сам Рюрик прокняжил в Приильменье до своей смерти, а его преемник Олег (Хельг) вместе с сыном Рюрика Игорем (Ингваром) и варяжской дружиной предпочли искать более удобного места и народа для княжения.
Что там произошло у варягов с приильмецами, летописец не сообщает, но об этом нетрудно догадаться, зная нрав новгородцев — активный, самостоятельный и строптивый. И в дальнейшем не один князь будет изгнан этой торговой республикой за самовластье.
Волжский путь был плотно прикрыт булгарами и хазарами, а в Поднепровье еще было просторно, — туда и направили свои ладьи варяги. Остановились они у приглянувшегося им «градка» под названием Киев, убили тамошних правителей и решили прочно обосноваться именно здесь.
Как показало будущее, решение Олега оказалось удачным. Земледельческое население окрестных лесостепей жило на границе с Диким Полем, в постоянном страхе, что какая-нибудь невесть откуда взявшаяся кочевая орда в одночасье превратит в пепел труды нескольких поколений — оно очень нуждалось в защите и отношение их к «дружинному» князю было гораздо более благожелательным, чем на севере. Само расположение Киева сулило князю немалые выгоды: город стоял на скрещении двух крупных торговых путей — Днепровского (из северной Европы в Византию) и северной ветки «Великого шелкового пути», по которому шли товары из восточной Азии (прежде всего, из Китая) в Европу. И непокорный Новгород крепко привязывался к Киевскому княжеству, поскольку нуждался в надежно охраняемом пути «из варяг в греки» и, кроме того, он не мог прокормить себя без южного хлеба.
Обосновавшись в Киеве, варяги начали брать под контроль соседние племена. Это не было «покорением» в привычном значении этого слова. Князь не становился для племен хозяином и господином — они брали на содержание его дружину в обмен на гарантию постоянной военной защиты. Они были при этом вполне самостоятельными в своей внутренней жизни: предводителями их оставались прежние племенные вожди, а споры решались не волей или законами чужака-князя, а в соответствии со стародавними, привычными традициями и обычаями. Не увеличились для них и материальные траты, поскольку точно такую же не слишком обременительную «плату за мир» некоторые племена выплачивали раньше хазарам (в год по серебряной монете и по беличьей шкурке «с дыма», со двора). Добровольно платили дань и те, кто был заинтересован в безопасности торговой дороги в Византию, — новгородцы ежегодно посылали киевскому князю 60 кг серебра. Принуждать силой к выплате дани варягам пришлось (более века) только племена, обитавшие в отдалении от Дикого Поля и незаинтересованные в дальней торговле.
Подавляющее большинство населения складывавшейся «империи Рюриковичей» видело князя максимум раз в году, когда он зимой вместе с дружиной объезжал контролируемую и защищаемую им территорию — собирать дань. Размеры ее вряд ли были слишком обременительны, а попытки князя самовластно взять «лишнее» могли кончиться для него плачевно (Ингвара-Игоря древляне за это разорвали между двумя березами).
Каждую весну к Киеву собирались лодки и ладьи со всех рек днепровского бассейна, и здесь формировался большой торговый караван, который под варяжским конвоем отправлялся в Царьград-Константинополь. По обоим берегам Днепра караван стерегли кочевники, они преследовали его и по берегу Черного моря вплоть до Болгарии, — без сильного варяжского конвоя пробиться к Византии было невозможно.
Если бы за караванами не стояла вооруженная сила нового Русского государства, то нелегко приходилось бы купцам и в самой Византии. Киевские князья время от времени отправлялись в Империю сами, во главе своей дружины, и дополнительно наняв варяжские отряды, и вооружив добровольцев из местного населения.
Овладеть великим городом такому войску, конечно, было не по силам, но пришельцы жгли и грабили окрестности, поэтому греки предпочитали откупаться от северных варваров богатыми подарками. Князьям, однако, важнее было получить от императоров гарантии безопасности и удобств торговли для своих купцов, — каждый такой набег завершался торговым договором.
Прибыльнейшей статьей экспорта с Руси в Константинополь были рабы — захваченные в военных походах пленники. В Царьграде торговали рабами, мехами, медом и воском, а закупали там качественные ткани, вино, золото, украшения.
И вплоть до конца 10 века главным делом киевских князей были дальние военные походы за добычей и «полоном».
Последним знаменитым завоевателем был Святослав, пытавшийся расширить пределы своей земли далеко на юг и на восток. Ему удалось добить ослабевшую Хазарию, но выгоды от разгрома давнего соперника были весьма сомнительны — на нижней Волге образовалась «брешь», в которую беспрепятственно хлынули гораздо более опасные для Руси кочевники-печенеги. Южное наступление Святослава также было успешным (он даже собирался перенести свою столицу из Киева на Дунай). Это очень обеспокоило Империю и ромеи взялись за воинственного князя всерьез — русы были вытеснены из Болгарии, а с самим Святославом византийцы расправились, выдав печенегам путь его возвращения через степь в Киев — князь был убит и печенежский хан, в надежде наследовать его храбрость, пил вино из его черепа.
Территория, которую контролировали варяжские князья, к концу 10 века в основном определилась, племена ее населявшие начинали постепенно сознавать свою общность в рамках единой власти. Князья укоренялись, избавлялись от психологии «находников», появлялось чувство ответственности за страну, — на первый план для них выходит стремление объединить и внутренне обустроить свое разноплеменное государство. Дав стране свое имя — «Русь» — варяги довольно быстро ославянились — уже внук Рюрика получил славянское имя (Святослав).
Новые отряды скандинавов, приходивших на Русь в поисках военной удачи, встречали здесь у своих бывших единоплеменников-князей все более прохладный прием, — те смотрели на них только как на беспокойных наемников и старались как можно скорее от них избавиться.
Решительный и вполне осознанный поворот князей к внутреннему укреплению своего государства начался с сына Святослава — Владимира.
.
ЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ И РАЗДРОБЛЕНИЕ ВЛАСТИ
Крещение Руси. Верования племен, оказавшихся в границах Киевской Руси, были обычны для народов, выживание которых целиком зависит от природных условий, которые еще не противостоят природе, а «встраиваются» в нее. Обожествлялись солнце и влага. Реки и озера, леса и поля, жилища и хлевы густо «заселялись» сверхестественными существами — большими и малыми. Защиты от них искали у умерших предков, которые непосредственно общались с духами природы. Жизнь после смерти очень походила на земное существование. Благополучие племени, рода зависело от жертв природным богам (а до конца тысячелетия сохранялись и человеческие жертвоприношения — по жребию). В каждом племени почитались свои боги, в каждом роду — свои предки.
Сначала Владимир попытался создать в своей столице общегосударственное святилище языческих богов — «сплавить» местные верования в единую религию и поставить во главе племенных богов покровителя княжеской власти «громового» бога Перуна. Вскоре, однако, Владимир свои намерения переменил — он решил ввести на Руси новое общее верование — христианство.
К тому времени в Европе единственным государством, не принявшим крещения, оставалась Киевская Русь. Это ставило ее князей в неравноправное положение в отношениях с правителями христианских государств. Крещение же ставило киевского князя на равную ногу даже с самим византийским императором. Крещение вводило страну в европейский мир, открывало путь к культуре (на первых порах хотя бы к обычной письменной грамотности).
В отличие от более западных государств у Руси не могло быть колебаний, от какого из двух христианских центров принять новую веру — из Рима или из Константинополя. Как на западе Европы «все дороги вели в Рим», так на восточноевропейской равнине «все реки текли в Царьград».
Созревшее решение Владимир сумел провести с максимальной для себя политической выгодой — он заключил при этом очень престижный брак с сестрой византийских императоров. В 988 году он потребовал от киевлян пройти всеобщий обряд крещения в днепровской воде — столичные жители подчинились. Вслед за этим массовые крещения прошли и в других областях Русского государства.
Крещение Руси проходило, как правило, мирно. Судя по всему, вряд ли население проникалось тогда его глубоким внутренним смыслом и воспринимало его как «княжье» мероприятие.
Сопротивление княжескому диктату оказали, как всегда, лишь новгородцы. После того, как посланный киевским князем епископ «требища (жертвенники) раззори, идолы сокруши и Перуна посече», возмущенные новгородцы устроили бунт, который пришлось усмирять самым жестоким образом.
Какой-либо организации профессиональных жрецов, которые могли бы непримиримо отстаивать традиционные верования, у племен не сложилось, так что, сопротивление новой религии вряд ли могло быть долгим и упорным. Да и вряд ли в массовом сознании крещение воспринималось именно как перемена веры — язычники попросту добавили христианского Бога к традиционному набору своих природных божеств. Со временем христианский Бог вытеснял из их верований верховных языческих богов, но еще и тысячелетие спустя Он мирно уживался в их головах с бесчисленными божками-покровителями, которых они называли уже христианскими святыми.
Старые боги не умирали, но оставались жить рядом с христианской Троицей, Богоматерью и святыми (или перевоплощались в новые — христианские — облики). Языческие обычаи, обряды и суеверия на века сохранились не только в деревнях, но и в городах. Христианские церковные службы воспринимались скорее как полуколдовские магические обряды поклонения верховному небесному покровителю. В этом отношении древние русичи ничем не отличались от других новообращенных народов — в западноевропейских странах похожая ситуация сохранялась вплоть до эпохи Реформации в 16 веке.
На этой заре русского христианства лишь немногим открывался истинный смысл нового учения, и лишь единицы понимали, что в это время страна выбрала свою будущую судьбу.
После крещения под княжеским покровительством в Киевской Руси создается церковная организация. Русская церковь родилась как составная часть византийской — она подчинялась решениям ее соборов, своим верховным главой считала константинопольского патриарха. Патриарх назначал главу русской церкви — киевского митрополита (как правило, присылался ученый монах-грек). Митрополит назначал в города епископов, а те, в свою очередь, благословляли на служение приходских священников.
Повсеместно строятся храмы, в которых начинаются регулярные богослужения. Большинство первых храмов — домашние церкви в хоромах княжеских приближенных, но со временем появлялось все больше приходских церквей для жителей городских кварталов. Ощущалась острая нехватка христианской литературы, богослужебных книг и, особенно, — грамотных людей, которых можно было бы поставить на священство. Владимир приказал отдать в книжное учение несколько сот киевских мальчиков (их матери при этом плакали по своим чадам, как по мертвым).
Неоценимую помощь в деле христианизации Руси оказала Болгария. Она была крещена от Византии веком раньше и там уже существовала обширная христианская литература в переводе на понятный киевлянам церковнославянский язык. Болгария стала посредницей в просвещении Руси византийской христианской культурой, в становлении древнерусского литературного языка.
Грамотность, просвещение аккумулировали первые на Руси монастыри. Люди, осознавшие греховность своей мирской жизни и жаждавшие небесного спасения уходили в монахи, и их жизнь становилась для окружающих первым зримым примером соблюдения новых моральных норм.
Первый свод законов. Раньше конфликты между людьми регулировались так называемым «обычным правом» — неписаными традиционными обычаями племен. Применением этих правил ведала сельская община.
Однако к 11-му веку появилось много людей, с общиной уже не связанных — горожан, «княжих» людей. Для них князь Ярослав Мудрый разработал первые государственные законы — Русскую Правду. В этом кратком своде законов отсутствовала смертная казнь даже за самые тяжкие преступления, наказанием за все виды преступлений были лишь штрафы и церковные покаяния.
Раздробление Киевской Руси. Потомки Рюрика, умножавшиеся с каждым поколением, смотрели на Киевскую Русь как на свое коллективное владение. Старший в роде занимал киевский «стол». Все остальные земли со своими главными городами подразделялись по степени богатства и престижности, и князьями там сидели рюриковичи по степени родового «старейшинства». Ни в одной из земель княжение не было наследственным.
После смерти какого-либо князя на его место из другой земли приезжал со своей дружиной следующий по старшинству член единого княжеского рода, а на его прежнее место также вставал следующий младший князь и т. д. Когда умирал великий князь киевский, перемещение князей из города в город становилось всеобщим.
Система эта была сложна, а со временем запутывалась все больше. Кроме того, какой князь куда «сядет» — зависело и от горожан, от их предводителей. Часто города изгоняли своего «законного» князя и приглашали того, кто им подходил больше, не считаясь с их семейными правилами. Бесконечные споры князей — кому куда «садиться» — все чаще выливались в кровавые столкновения их дружин.
История Киевской Руси начиная с 11-го века предстает в летописях непрекращающейся и бесконечной чередой распрей, княжеских походов друг на друга, братоубийств, ослеплений, насильного пострижения в монахи, приводов на Русь военной подмоги и с запада (поляков, венгров), и степняков (половцев).
Каждый князь был в городе и земле временным «находником», он с его жителей «кормился», ими управлял, но не чувствовал необходимости быть рачительным хозяином вверенной ему области. Население страдало и от междоусобных войн, и от самовластья князей-временщиков — единство Руси стоило дорого.
Тем временем, Русская земля за два века стала богаче, производительней. Земледельцы осваивали железные орудия труда, интенсивнее обрабатывали землю и получали урожаи, которые могли уже прокормить большее число людей (и самих крестьян, и ремесленников, и воинов, и управителей). Развивалось и совершенствовалось ремесло (в это время в городах можно насчитать более пятидесяти специализированных ремесленных профессий). Многое из того, за чем раньше надо было с войском ехать за тридевять земель, изготовлялось местными мастерами. Поэтому потомкам викингов становилось выгодней заботиться о процветании городов и прилегающих к ним земель, чем геройствовать в дальних походах.
Первыми стали оседать дружинники — среди них находилось все меньше желающих отправляться за своими предводителями на новые места. Они добивались от князя передачи им во владение земельных угодий и укоренялись на них, передавая их по наследству (речь шла о праве собирать подати с крестьянского населения, жившего в их вотчинах). Они служили любому приходящему князю — так же, как и остававшиеся в городе служители княжеского дома, сборщики налогов и т. д. И сами князья переставали «ловить журавлей в небе», предпочитая все прочнее закреплять за собой доставшиеся им города с прилегающими землями.
К концу 11-го века расплодившиеся рюриковичи почувствовали необходимость сменить всю систему управления страной. В 1097 году они собрались на княжеский съезд в городе Любеч и постановили: «…кождо да держит отчину свою». Единству «семейной» власти надо всей территорией Руси пришел конец. Государство распалось на «отчины» — наследственные владения отдельных ветвей княжеского рода.
Раздробление власти не привело к упадку страны. Наоборот — особенно интенсивно пошло городское строительство, успешнее развивались ремесла, богаче и разнообразнее становилась культура Руси.
Люди по-прежнему чувствовали себя жителями одной страны — их связывали единая религия и общий язык, во всех княжествах продолжали действовать законы Русской Правды.
Не ослабла при этом и совокупная вооруженная сила страны — профессиональных воинов, вероятно, стало даже больше. Но организовывать единое командование ими стало гораздо труднее — отдельным дружинам соперничавших между собой князей слиться в единую общерусскую рать стало практически невозможно.
Такая раздробленность, которая была сравнительно безопасной на западе Европы, грозила большими бедами окраинным европейским странам, которые граничили с непредсказуемым кочевым Диким Полем.
Впрочем, реальной опасности извне не замечалось более столетия: кочевникам южных степей — половцам — киевский князь Владимир Мономах в начале 12-го века дал такой сокрушительный отпор, что они надолго прекратили свои набеги [половецкие отряды осмеливались разорять русские земли лишь тогда, когда приглашались самими князьями для подмоги в междоусобных войнах]; соседи на западе не были столь сильны, чтобы всерьез угрожать даже пограничным западнорусским княжествам.
Решение любечского съезда вовсе не прекратило княжеских столкновений, но теперь князья воевали между собой не столько за «главный» киевский престол, сколько за расширение территорий собственных владений.
Читать дальше:
Хотелось бы, чтобы после чтения этой Главы вы поняли (хотя бы интуитивно) некоторые чрезвычайно важные вещи. А именно:
— знание, понимание, религиозных учений и размышления над решаемыми ими глобальными проблемами бытия нужны человеку вне зависимости от степени его религиозности и воцерковления (и даже тому, кто считает себя неверующим);
— без знания, понимания иных религиозно-этических учений трудно стать сознательным, убежденным носителем своей собственной веры;
— разные вероучения столь серьезно, глубоко различны, что смешать их воедино и из этого полупереваренного «винегрета» вывести для всех какую-то «всеобщую», «синтетическую» религию абсолютно невозможно;
— господствующая религия создает для каждого общества идеальный образ совершенной личности, определяет ее ценности и тем самым задает строй жизни для всего населения, что в огромной степени влияет на историческую судьбу народа;
— следует уважать в других людях иные, чем твои, верования, но и быть последовательным в своих;
— исторически сложились два освященных религиями типа личности и общества, условно называемых «западным» и «восточным» — их нужно узнавать и различать;
— что «восточные» учения направлены на растворение личности в чем-то более общем (в семье, в обществе, в государстве, во Вселенной), а «западные» (различные направления христианства) ориентируют человека на строительство своего «Я» — в соответствии с определенными законами.
.
БУДДИЗМ
Буддизм — огромное, очень разветвленное, внешне разноликое учение, чрезвычайно усложнившееся со времен его основателя. До нас оно доходит сегодня в сильно адаптированном для западной аудитории виде — именно на таком приспособлении специализируются некоторые восточные секты, пользующиеся популярностью не на «исторической родине», а именно в странах христианской культуры. Их яркая экзотика (медитирование, правила питания и пр.) заслоняет порой самую суть, первооснову этого мощного и своеобразного учения.
Именно самую суть буддизма мы попытались донести в Курсе. Если расширять рассказ о буддизме, то он сразу же вырастает до размеров приличного тома. Наша же задача — не столько «изучить», сколько понять, прочувствовать, уловить главное в буддизме, его основной принцип, чтобы голова закружилась на краю той бездонной пропасти, на который Гаутама поставил одинокого человека.
«Очистив тело воздержанием, усовершенствовав ум смирением и укрепив сердце одиночеством, он стал искать мудрость в пустыне. Он обратился к вещам, созданным богом, надеясь узнать истину в красоте утра, великолепии солнца и пышности природы и жизни. Он занялся размышлениями и молитвами. …Сидя под деревом бо на травяном ложе, Гаутама постоянно и неподвижно смотрел на восток, и его ум был устремлен к одной цели: «Я не сдвинусь с места, пока не достигну высшего и абсолютного знания». Он провел под деревом семь недель. …Однажды… его ум озарился новым светом. Он овладел тем, что искал.
Когда он обрел просветление после многих лет постоянных поисков и размышлений, он счел своей обязанностью рассказать обреченным толпам о пути к вечному счастью…
Когда после миссионерской деятельности, продолжавшейся примерно сорок лет, он понял, что приближается время для него отказаться от своего тела и достигнуть нирваны, он потратил последние часы на советы и наставления… монахам. Передают, что он умер в возрасте восьмидесяти лет.
Великий Будда навсегда олицетворяет душу Востока с ее напряженным спокойствием, мечтательным благородством, тихим покоем и глубокой любовью».
(С. Радхакришнан, индийский философ)
.
«Желание беспечно живущего человека растёт, как малува. Он мечется из существования в существование, как обезьяна в лесу, ищущая плод.
Как плодовитая трава бирана, растут печали у того, кого побеждает это несчастное желание — привязанность к миру.
Кто в этом мире побеждает это несчастное, трудно победимое желание, у того исчезают печали, как капля воды с листа лотоса.
Вот что говорю я вам: «Благо вам, сколько вас здесь ни собралось! Вырывайте корень желания, как вырывают бирану, чтобы найти благовонный корень усиру! И да не сможет победить вас Мара, как поток — тростник».
Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не повреждён и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию.
У кого сильны тридцать шесть потоков, устремленных к удовольствиям, и мысли направлены на страсть, того, отклонившегося от правильных взглядов, уносят потоки.
Потоки текут везде. Лата буйно разрастается. Увидев эту расцветшую лату, вырежьте её корень с помощью мудрости.
Бывает, что на человека нахлынут плотские вожделения. Привязанные к удовольствиям, ищущие счастья, такие люди, поистине, подвержены рождению и старости.
Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц. Связанные путами и узами, они снова и снова в течении долгого времени возвращаются к страданию.
Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц. Поэтому бхикшу, если он хочет уничтожить страсть, пусть изгонит желание.
Он свободен от желаний, свободен от страстей, предан жизни в лесу — и все-таки бежит в чащу желаний. Смотрите на этого человека: свободный, он бежит в ярмо.
Мудрые не говорят: крепки эти путы, сделанные из железа, дерева или травы бабба. Ведь страстная-страстная привязанность к женщинам, детям или серьгам из драгоценных камней — крепче.
Мудрые говорят: крепки эти путы, тянущие вниз, коварные, из которых трудно освободиться. Разрубив их, они странствуют, отказавшись от страсти и удовольствия, без желания.
Возбужденные страстью попадают в поток, как паук в сотканную им самим паутину. Мудрые же, уничтожив поток, отказавшись от всех зол, странствуют без желаний.
Пересекая поток существования, откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. Если ум освобождён, то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к рождению и старости.
У человека со смущенной мыслью, с сильной страстью, видящего лишь удовольствие, — желание все возрастает: поистине, он делает путы крепкими.
Кто находит удовлетворение в спокойной мысли, постоянно размышляет, думает о неприятном, именно тот положит конец желаниям, тот уничтожит путы Мары.
Он достиг совершенства, он бесстрашен, и у него нет желаний; безупречный, он уничтожил тернии существования; это его тело — последнее.
Богатства убивают глупого, а не тех, кто ищет другого берега. Желая богатства, глупый убивает себя, как других.
Плевелы портят поля, страсть портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от страсти, приносит великий плод.
Плевелы портят поля, ненависть портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от ненависти, приносит великий плод.
Плевелы портят поля, глупость портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от глупости, приносит великий плод.
Плевелы портят поля, желание портит этих людей. Поэтому то, что дано освободившимся от желания, приносит великий плод».
«Все горит! Все объято пламенем. Взор наш горит; видимые вещи горят; горят впечатления от видимого; соприкосновение взгляда с видимыми вещами — приятные или неприятными, безразлично — тоже горение. Но каким же огнем пылает все это? Поистине все горит огнем похоти, огнем гнева, горит терзаниями рождения, увядания, смерти, скорби, стенаний, страдания, печали и отчаяния. И ухо горит, и звуки горят. И вкус, и обоняние — горение. Тело наше в огне; осязаемые предметы горят, и самый дух наш объят огнем, пылают мысли наши.
И вот, постигнув все это, человек переполняется утомлением ко взору, и к вещам видимым; утомляется он и слышимым, и ощущаемым, и мыслью. И, равнодушный ко всему, он свергает с себя одежду страстей, становится свободным от них. Освободившись же от от всего этого, он ощущает совершенность своей святости — дальнейший возврат его в этот мир невозможен».
(Шакья-Муни)
.
Православный богослов о непримиримой противоположности буддизма и христианства:
«…Будда жалеет людей за то, что они живут, Христос — за то, что они умирают. В буддизме именно неповторимый рисунок человеческой личности должен распасться.., в христианстве именно личность человека и призывается наследовать Вечность…. Эта религия не знает ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли…
Спасение на Востоке — избавление от связанности с телом и материальным миром; в христианском мире человек должен спасти свою целостность (в том числе и телесность) от распада, которым угрожает грех и смерть.
Путь спасения от бытия на Востоке — путь избавления от любви к чему бы то ни было. Даже добро любить нельзя, даже Бога не стоит любить…
В своем исходном утверждении Будда прав: человек испытывает боль оттого, что его желания не реализуются. Но рецепт спасения он предлагает по принципу «лучшее средство от перхоти — гильотина». Христианство вместо отсечения и истребления всех и всяческих желаний, вместо ампутации желающей и волящей части человеческого естества предлагает преображение… В проповеди Христа есть одно место, с которым никогда не согласился бы Будда: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Алкать и жаждать» — да это же вернейший путь к погибели!” — воскликнул бы Гаутама. Но именно эти слова вырвали европейский мир из полудремы Востока”.
(о. Андрей Кураев)
.
ДАОСИЗМ
Авторы по своему мировосприятию отнюдь не даосы, но все же должны признаться в одном своем тайном грехе: к Лао-Цзы они питают слабость (кажется, это заметно и по тексту учебника). Наверное, это оттого, что он прежде всего — поэт.
Людей, способных к даосскому чувствованию мира, не может быть много, — если это и религия, то очень элитарная, аристократическая. Философия, которую можно извлечь из его стихов, абсолютно антисоциальна. Но одновременно она столь неагрессивна, что не представляет опасности ни для какого общества. Обаяние этого старика, мелькнувшего когда-то на краю Евразии, живо и поныне…
***
Перестань хранить верность вещам, к которым привязан,
и ты освободишься от горя и тоски.
Только так можно обрести опору в жизни,
разве не стоит ради этого отказаться от взаимных упований и надежд?
Пытаясь оказать добро другим, мы причиняем им зло,
разве не стоит нам отказаться от этого?
То, чего страшатся люди,
чего они не могут не бояться,
так это оказаться в одиночестве, оставленными всеми,
но никому не миновать этого.
А пока все люди предаются веселью,
словно справляя великое жертвоприношение,
словно празднуя приход Весны.
Один лишь я тих и незаметен,
словно то, что еще не явилось на свет,
словно младенец, который еще не умеет смеяться.
Такой усталый, такой грустный.
Подобно страннику, навеки утратившему
возможность вернуться назад.
Все люди держатся за свое «я»,
один лишь я выбрал отказаться от этого.
Мое сердце подобно сердцу глупого человека, —
такое темное, такое неясное.
Повседневный мир людей ясен и очевиден,
один лишь я живу в мире смутном,
подобном вечерним сумеркам.
Повседневный мир людей расписан до мелочей,
один лишь я живу в мире непонятном и загадочном.
Как озеро, я спокоен и тих.
Неостановимый, подобно дыханию ветра.
Людям всегда есть чем заняться,
лишь я один отличаюсь от других тем,
что превыше всего ценю корень жизни,
мать всего живого.
***
В способности сносить тяготы заключен корень легкости.
В покое заключена основа движения.
Вот почему мудрый каждую минуту двигается дальше,
не цепляясь ни за что
и он не пытается сбросить груз со своей повозки.
Если даже и доведется ему оказаться в дворцовой зале,
он будет чувствовать себя там спокойно и беззаботно,
подобно случайно залетевшей ласточке.
Ведь что можно поделать с тем, кто, будучи господином,
с легкостью взирает на мир
и руководствуется лишь своими личными интересами?
Обретешь легкость тогда, когда
избавишься от привязанности к тому, что имеешь.
Обретешь свободу движений тогда, когда
утратишь связь с тем, кто тебя породил.
***
Тот, кто лишь пытается начать, никогда не начнет.
Тот, кто слишком торопится, ничего не достигнет.
Тот, кто виден всем, не может быть ясным.
Тот, кто считает себя правым, не может стать лучше.
Тот, кто заставляет себя, не достигнет успеха.
Тот, кто жалеет себя, не может совершенствоваться.
Находясь в пути, он изо дня в день предается излишествам
в еде и совершает никчемные поступки,
и все, что он имеет, внушает ему отвращение.
И потому он на этом пути не обрящет покоя.
.
Растворение в Дао — путь в бессмертие:
«Дао — это и есть я, и по этой причине все существующее является мной. Дао неисчерпаемо и безгранично, оно не рождается и не умирает, поэтому я также неисчерпаем и безграничен, не рождаюсь и не умираю. Перед смертью я существую, и после смерти я также существую. Скажете, что я умер? Ведь я не умираю. И огонь не сжигает меня, и в воде я не тону. Я превращаюсь в пепел, и все же я существую. Я превращаюсь в лапку бабочки, в печенку мыши, но все же я существую».
(Чжуан-цзы, философ-даос)
Из рассказов об одном из знаменитых даосов Чжуан-цзы:
«У Чжуан-цзы умерла жена, и его друг пришел ее оплакать. А Чжуан-цзы, сидя на корточках, стучал по глиняной корчаге и распевал песни.
— Ты прожил с нею жизнь, — сказал друг, — нажил детей. А теперь, когда она, состарившись, умерла, не только не плачешь — а еще и колотишь в посудину, распеваешь песни. Это уж слишком!
— Нет, ты не прав — сказал Чжуан-цзы. — Когда она умерла и я остался один — мог ли я не печалиться? Но вот я задумался над ее началом — когда она еще не родилась; не только не родилась — еще не обладала телом; не только телом — но и эфиром. Растворенная в мутном Хаосе, она стала преображаться — в эфир; эфир преобразился — и возникло тело; тело преобразилось — и возникла жизнь. А ныне вновь преображение — и смерть. Все это следует одно за другим, как времена года: за весною — лето, за осенью — зима. Так зачем же теперь, когда она покоится в Мироздании, провожать ее плачем и воплями? Ведь это значит — не понимать велений Судьбы. Вот я и перестал плакать».
.
КОНФУЦИАНСТВО
Конфуцианство — уникальное явление. Китайцы создали почти религиозный культ человека, который не объявлял о своей божественной сущности, не претендовал на то, чтобы быть пророком новой веры, который, напротив, подчеркивал сугубо земной характер своих взглядов, человека, который сам говорил о том, что не открыл никаких новых великих истин, не нашел (и не искал) путей спасения человеческой души, которого душа человеческая даже и не интересовала. И в своих земных советах Конфуций не звал людей к нравственному обновлению, не звал общество к каким-либо «сияющим вершинам» («умеренность и аккуратность»). Конфуций даже не был удачливым реформатором — все его попытки осуществить свою теорию на практике оканчивались ничем.
Мы не в состоянии понять эту загадку конфуцианства. Здесь нужно откровенно расписаться в собственном бессилии. Вероятно, европейцу это вообще не под силу. Восхищенное удивление перед этим феноменом — может быть, это и есть то главное, что можем мы вынести после знакомства с этой темой. И еще: с этой страной надо быть очень осторожным в рассуждениях и выводах — европейские критерии здесь зачастую неприменимы. Чтобы хоть как-то ориентироваться в «китайской вселенной», надо, отказавшись от привычных стереотипов, погрузиться в нее полностью, с головой, принять ее в свое сердце — и, может быть, только тогда мы начнем понимать, что это такое — Китай.
.
ХРИСТИАНСТВО
Христианство нам знакомо больше, чем другие вероучения (или это нам так кажется). Но оно настолько идейно продуктивно, разнообразно, что теряешься — за какую «ниточку» потянуть. Мы обратимся к теме и субъективно близкой нам, и весьма значимой для исторического пути стран христианского мира: христианство и свобода.
«Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства.
Первая — абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви…
Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот эта вторая страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного.
Признать ее — значит поставить свободу выше любви… Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы». И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир.
И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе».
«Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые авторитарные Церкви ныне стоят на почве свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилие ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков или даже тысячелетий. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее… Среди тяжелых неудач и поражений… оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения, христианство сейчас… ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром».
(Георгий Федотов)
.
ИСЛАМ
Ислам — трудная тема. Он слишком близко (говорится это с точки зрения людей христианской культуры). Так уж получилось в истории, что отношение к мусульманству на православной Руси много веков было не слишком доброжелательным. Традиция этого отношения докатилась и до сегодняшних поколений. Стереотипы массового сознания очень привязчивы, иррациональны и продолжают жить, хотя уже давно противоречат и внешним интересам государства, и потребностям его внутренней стабильности, и практическим выгодам самого населения.
Подобные ксенофобии выветриваются лишь по прошествии многих десятилетий — и не сами по себе, а при целенаправленном и осторожном воспитании новых поколений. И если мы не хотим оставлять себя, своих детей и внуков в этом психологическом тупике, давайте учиться понимать хотя бы субъективную, человеческую привлекательность ислама для сотен миллионов людей.
Обратите прежде всего внимание на психологическую комфортность земного существования правоверного мусульманина. Ведь, в отличие от буддиста, перед ним не стоит практически непосильная задача полного внутреннего искоренения собственной личности; он не одинок в этом мире, ему всегда можно надеяться на помощь свыше и в спасении души, и во вполне земных делах. Земной мир для него не зыбкий мираж, земная жизнь — не средоточие страданий, но прожить ее можно полно, не отказывая себе в большинстве ее радостей. Здесь есть запретные удовольствия, но воздержание от них в этом мире есть залог того, что они будут в полной мере доступны в потустороннем существовании.
Мусульманин, в отличие от христианина, не мучается несовершенством этого мира, его несоответствием Божьему замыслу — мир ему соответствует всегда и везде (а почему он таков — не дело жалкого человеческого разума). Может быть, поэтому в исламском мире практически не было попыток установить «Царство Божие на земле», время от времени сотрясавших кровавыми конвульсиями христианские общества. Правоверный мусульманин, как правило, не имеет оснований мучиться собственным внутренним несовершенством, своим несоответствием Божьей воле — он точно знает, что угоден Творцу, если соблюдает обязательные, очень подробно расписанные обряды, правила общественного поведения и запреты.
Вот как выглядит создание человека в Коране — как оно «материально», как конкретно!
«Мы уже создали человека из эссенции глины, потом поместили Мы его каплей в надежном месте, потом создали из капли сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок мяса, создали из этого куска кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили его в другом творении, — благословен же Аллах, лучший из творцов!»
.
ЯЗЫЧЕСТВО
Эта тема, пожалуй, наиболее актуальна для современного российского общества, ищущего свою мировоззренческую опору. Вот православная точка зрения на этот счет, высказанная одним из современных богословов о. Андреем Кураевым:
«Какая самая массовая религия в России? Нет, не Православие. Можно обмануть профессиональных социологов (и они, поверив на слово гражданам, будут утверждать, что большинство верующих России сочувствуют Православию). Но нельзя обмануть тех, кто имеет дело не со словесными заверениями, а с деньгами.
Нельзя обмануть книготорговцев. Так вот, на одну книгу о Православии, продающуюся на уличных прилавках, приходится не менее двадцати книг по оккультизму и язычеству (без учета романов «мистических ужасов»). Гороскопы, учебники по йоге и медитации, мистические трактаты от Древнего Египта до Кастанеды да плюс неоязычники типа Хаббарда.
Да, есть люди, которые нашли свое место в Православной церкви. Но гораздо быстрее, чем число прихожан в православных храмах, увеличивается в последние годы в России число сторонников языческих практик…
Прибавьте к этому обилие всевозможных сектантских проповедников (от кришнаитов до «преподобного Муна»)… — и у вас заметно поубавится охоты рассуждать о «духовном возрождении России».
Язычество — это отнюдь не милая народная этнография, гаданья на Рождество и разгадывание гороскопов. Язычество — это прежде всего реальность, религиозная реальность. В него можно не только играть. В нем можно пропасть, погибнуть.
…Кто такие язычники, достаточно ясно сказал ап. Павел: это люди, которые «служили твари вместо Творца» (Римл. 1, 25). Язычество есть там, где человек застревает в инстанциях, находящихся между Творцом и человеком. Язычник — это человек, с религиозным энтузиазмом доверившийся миру. Это человек, принявший временную остановку за конечную цель…
Мир поистине прекрасен. Он может быть источником религиозных переживаний. Но он не может быть предметом религиозных чувств. Странствуя по миру, человек рискует «в великолепии видимого потерять из виду Бога» (св. Григорий Богослов)».
«…В космологии христианское богословие использует тактику «выжженой земли»: оно само не формулирует космологических систем, но и не допускает их навязывания извне. Языческий мир всегда… пытался навязать христианству свою космологию… заполнить пространство между Богом и человеком всевозможными эонами, сефиротами, планетами и т. п. Для христианства же это неприемлемо… потому, что религия — связь с Богом, а не с высшими эшелонами космоса…
Христиане — это люди, которых спросили: «Что ты желаешь знать?» И они ответили: «Бога и душу». — И ничего больше? — Ничего». Христианский мир променял фантастику космогоний на познание души и ее спасение».
«Язычество — это не поклонение дьяволу… Это поклонение тому, что не есть Бог. Поклонение совести. Поклонение нации. Поклонение искусству. Поклонение здоровью. Богатству. Науке. Прогрессу. “Общечеловеческим ценностям». Космосу. Самому себе».
«Самое опасное… — это поклонение самому себе…»
«Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некий помысл, имеющий в себе подобно искре и свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестию, и она есть естественный закон», — пишет авва Дорофей. Но «естественный закон» лишь указывает на вышеестественное, а не заменяет его. Совесть напоминает о Боге, но сама не есть Бог…
Здесь — важнейшая грань, непроходимо разделяющая христианский опыт и опыт языческий. Человек не есть частица Божества… Божественное в человеке — это «благодать», дар, которого в человеке не было, но который извне дан ему».
«Не чувствуя своей духовной поврежденности, языческий мир все же остро чувствует ненормальность положения человека. Но чем ее объяснить, где найти источник загрязненности? Христианин сказал бы — вина в моей воле, в моем духе, в моем грехе. Однако дело в том, что увидеть свои грехи может лишь человек, уже освещенный лучиком благодати. Так в темной комнате нельзя заметить мусора. Но если в ту же комнату прорвался прямой луч света, в нем будет видна даже пылинка, танцующая в воздухе. Отсюда — парадокс..: святые называют себя грешнейшими, тогда как мы чуть не ежедневно встречаем на улице, мягко говоря, несовершенных людей, уверяющих, что у них-то грехов никаких нет: «Если и убивал кого, так только по делу!» Душа, наглухо задраенная от Бога, не видит свое истинное состояние. Покаяние там не родится».
.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Две первых Главы — это «введение» истории нашей страны в контекст мировой истории во всех ее проявлениях, описание того запутанного «клубка» многовековых взаимовлияний цивилизаций, в котором есть и наша, российская «ниточка».
«Клубок» этот един, но «нитки», его составляющие, не только самых разнообразных цветов и оттенков, но и существенно отличаются по материалу, из которых они сплетены.
И главное, что должно быть здесь и сейчас уяснено, это качественное различие двух культурно-исторических массивов — Востока и Запада.
Георгий Федотов:
«Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство переднеазиатских культур, идущих непрерывно от шумеро-аккадской древности до современного ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно [эллинистические деспотии], пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с татарскими (тюркскими) окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии»;
«В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта возобладало представление о многообразии культурных типов. …Я старался показать, что лишь один из них — христианский, западноевропейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова… Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад — то, значит, Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока?»;
«В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи».
.
А теперь — тесты! Попробуйте определить принадлежность следующих высказываний одному из учений. Предлагаемый тест довольно сложный, но интересный. Если вас затруднит точная идентификация текстов, упростите в этих случаях задание, и укажите — «восточное» это учение или «западное».
.
ТЕСТЫ
- «Я такой же человек, как вы, я только получил откровение, что Бог наш есть Бог единый».
- «Я просто человек, который в страстном стремлении к знанию забывает о пище, в радостях познания забывает о горестях и который не замечает приближающейся старости».
- «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого: то не соглашайся с ним и не слушай его; и не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа».
- «Знающий не говорит, говорящий не знает».
- «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?»
- «Платить добром за зло — нелепость. Чем же тогда платить за добро?»
- «Почтительность — это признак отсутствия доверия и преданности. Она начало смуты».
- «Как дерево, хотя и вырванное, продолжает расти, если корень его не поврежден и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к Желанию”.
- «Учитель учил четырем вещам: письменам, правилам поведения, верноподданости и чистосердечности».
- «Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался от гордости и лишен желаний. Такому даже боги завидуют. Подобный земле, он не знает смятения, у него спокойная мысль и слово, спокойно и деяние. У такого спокойного и освобожденного — совершенное знание. В деревне или в лесу, в долине или на холме — где бы ни жил он, любая земля там приятна. Где не радуются прочие люди, возрадуется лишенный страсти, ибо не ищет чувственных удовольствий».
- «Если не будешь стараться исполнять все слова Закона сего и не будешь бояться сего славного и страшного имени Бога твоего: то Бог поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями великими и постоянными. И как радовался Бог, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться он, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли до края земли. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Бог даст тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей».
- «Мудрый человек предпочитает недеяние и осуществляет учение безмолвно. Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие. Он не борется, поэтому он непобедим в этом мире».
- «Все люди радостны, как будто присутствуют на торжественном угощении. Только я один спокоен и не выставляю себя на свет. Я подобен ребенку, который не явился в мир. Все люди полны желаний, только я один подобен тому, кто отказался от всего. Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в морском просторе и не знает, где ему остановиться».
- «- Ты считаешь меня многоученым? — А разве нет? — Нет, я лишь связываю все воедино».
- «Из желания рождается печаль, из желания рождается страх; у того, кто освободился от желаний, нет печали, откуда страх?»
- «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»
- «Когда человек узнает место, где он должен остаться навсегда, то определится настроение его души. Когда настроение его души определится, то прекратится всякое душевное волнение. Государство процветает, когда государь бывает государем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном».
- «Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».
- «Небо породило весь народ, которому даны и вещи и порядок, народ придерживается законов, то и есть прекрасная добродетель».
- «Есть бытие, которое существует раньше, нежели небо и земля. Оно недвижимо, бестелесно, самобытно и не знает переворотов. Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела. Оно одно только может быть матерью неба и земли».
- «У свершившего странствие, у беспечального, у свободного во всех отношениях, у сбросившего все узы — нет лихорадки страсти. Мудрые удаляются; дома для них нет наслаждения. Как лебеди, оставившие свой пруд, покидают они свои жилища. Они не делают запасов, у них правильный взгляд на пищу, их удел — освобождение, лишенное желаний. Их путь, как у птиц в небе, труден для понимания».
- «Не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
Мир к концу I тысячелетия нашей эры
Судьбы народов во многом, очень во многом зависят от того, каким люди представляют себе мир и определяют в нем свое место, в чем они видят смысл своего существования и что для них есть добро и зло.
.
Мировые религии. Как отделить добро от зла, в чем смысл человеческого существования — вопросы эти не просто очень сложны. Путем логических доказательств найти ответы на них оказалось невозможным в принципе — они вне логики. Ответ — после долгих поисков, напряженных усилий души — появляется вдруг, как внезапное озарение.
Поиск ответов на самые большие и важные вопросы жизни — интимное дело каждого человека. Но в разных уголках земли, в разное время появляются люди, которым удается понять мир, человека, самих себя, настолько глубоко и интересно, что их идеи распространяются быстро и широко — они поражают воображение, они овладевают сознанием целых народов.
Когда учение среди людей становится общепринятым, оно начинает определять национальную психологию, образ жизни, моральные ценности народов и государственную политику правителей.
.
БУДДИЗМ
Буддизм — самое древнее религиозное учение, которое вышло за пределы одного народа и оказало влияние на сотни миллионов людей. В его основе лежит то понимание мира, к которому пришел легендарный мыслитель Гаутама. Его еще часто называют Шакья-Муни — «отшельник из рода Шакьев». Он жил и проповедовал в северной Индии в 6 веке до нашей эры.
Царевич, выросший в роскоши и удовольствиях, внезапно осознал, что его, как и всех людей, ждут мучительные болезни, угасание и старость, и неизбежный конец — смерть. За каждую радость человеку приходится дорого расплачиваться — тяжкими разочарованиями и страданиями. Жизнь есть колесо страданий, которое крутится вечно. И нет живого существа, которое сумело бы избегнуть общей судьбы.
Это так его поразило, что он не мог больше наслаждаться сегодняшним своим счастьем и однажды ночью тихо ушел из дворца — навсегда. Он стал лесным отшельником, и теперь ничто не мешало ему подвергать себя любым испытаниям — в поисках выхода из круга страданий.
Вначале он принял общее убеждение, что источник страданий человека — его тело. Гаутама специальными упражнениями укреплял свой дух, голодом, холодом, жарой изнурял плоть. Он сумел подчинить себе свое тело — полностью, абсолютно. Но он понял, что источник страданий не в теле, а в душе человеческой. Этот источник страданий — в самом желании жить…
Мысли, к которым пришел Гаутама, были необычны и безжалостны, но его проповеди обладали странной притягательностью.
Все живое и неживое, вся природа и боги, которые ею управляют, и сам человек — лишь обманчивая видимость, иллюзия. Бесконечная и вечная Вселенная на самом деле — это совокупность мельчайших частичек (дхарм), которые находятся в постоянном, возбужденном движении. Ненадолго слипаясь в случайные сгустки, они образуют все формы живой и неживой, божественной и человеческой природы. То, что в видимом мире представляется смертью, прекращением существования, есть распад этого конкретного сочетания дхарм. Они продолжают свое вечное движение, и вновь слипаются, образуя все новые и новые тела и души.
Но если дхармы составляли ранее живое существо, то их следующее слипание уже не случайно. Эти частички уже заряжены той духовной энергией, которую они получили в предыдущей жизни — и поэтому в следующий раз они слипаются между собой уже совершенно определенным образом. Эту зависимость нового существа от деятельности предыдущего буддисты называют кармой, а череду неисчислимых превращений всего живого они называют сансарой.
От рождения до смерти жизнь человека наполнена неудовлетворением и страданиями. Высшее благо для него, его заветная цель — прекратить жить, оборвать цепь перерождений, покинуть мир страданий — сансару. Самоубийство здесь — бесполезно и бессмысленно. Нужно уничтожить саму глубинную причину продолжения жизни — желание жить. Человеку для этого нужно прожить так, чтобы успокоить, «утишить» свои дхармы, изжить все свои страсти, желания, чтобы дхармы не «подзаряжались» от них новой энергией, чтобы этой энергии (кармы) не хватило на новое рождение. Тот, кому это удалось, становится буддой (Совершенным, Просветленным) и впадает в блаженное небытие — нирванну.
У буддийского мира нет ни начала, ни конца, в него не заложено изначально какого бы то ни было смысла, цели. Человек со своей тяжкой и почти неосуществимой задачей там один в холодной, неодушевленной вселенной.
Жизненными правилами для миллионов буддистов становились пассивная созерцательность, отказ от таких действий, которые выходят за рамки повседневного автоматизма и требуют активных целенаправленных усилий, минимальные потребности и равнодушие к материальным благам, мягкость и бесконфликтность в общении, ненанесение вреда окружающему миру, внутреннее равновесие и сосредоточенность.
Буддизм разработал изощренные и сложные технологии, практики, с помощью которых человек может приучиться не только не испытывать никаких желаний и не страдать от их неудовлетворенности, но и перестать ощущать себя личностью, «потерять», забыть самого себя.
Учение Шакья-Муни породило бесчисленное множество толкований, течений, сект. Эта внутренняя свобода внутри буддизма, отсутствие жесткого канона помогала приспосабливать учение к особенностям различных народов. Буддисты терпимо относились к их традиционным верованиям (боги их не слишком интересовали), их мироощущение и проповедь могли мирно уживаться почти с любыми традиционными («языческими») верованиями. Поэтому господствующей, государственной религией он стал далеко не во всех странах, на народы которых он оказал, по сути, огромное психологическое влияние.
К концу II тысячелетия буддийское мироощущение в той или иной степени характерно для населения Японии, Китая, почти всех стран южной Азии, Монголии, Тибета; в России буддизм исповедуют калмыки, буряты, тувинцы. С возникновением единого информационного пространства в сегодняшнем мире буддийские идеи, которым уже скоро две с половиной тысячи лет, все шире распространяются во многих развитых странах (Европа, Северная Америка).
.
КИТАЙ: ЛАО-ЦЗЫ И КОНФУЦИЙ
Даосизм. Примерно в то же время, когда в Индии проповедовал Шакья-Муни, в Китае над теми же проклятыми вопросами бился человек, настоящего имени которого современники не запомнили — осталось только его прозвище: Лао-цзы («Старое дитя»).
Говорят, что был он чиновником, заведовал императорским архивом, а потом во времена политической смуты решил удалиться от мира. Последним, кто его видел, был начальник заставы на западной границе — проезжавший на буйволе старик подарил ему свою книгу «О пути и добродетели» и один отправился дальше. Больше о нем никто не слышал…
Это была книга стихов:
Идущий истинным путем
не найдет отпечатков колес.
Лучшее правило в жизни —
это не строить планов.
Лучший запор тот,
что не имеет замка, и его невозможно
взломать
Лучшие узы те,
что не удерживаются ничем, и их нельзя
разрубить.
…
И потому
тот, кто стремится улучшить жизнь людей,
не может быть им хорошим наставником;
а тот, кто не стремится оказать благодеяние
людям
тем легче может помочь им.
Не цени высоко свои наставления,
не дорожи тем, что имеешь,
ведь знание — это великое заблуждение.
И это воистину глубокая мысль.
Это не только прекрасная поэзия, но особый взгляд на устройство мира и на место в нем человека. Простые и мудрые мысли этой рукописи, не старея, живут уже почти двадцать пять веков.
У Лао-цзы была редчайшая способность — всем существом, во всей полноте чувствовать огромность и целостность вселенной, ощущать царящую в ней великую гармонию. Везде, во всем видел он неведомую животворную силу, которая пронизывает своими токами все мироздание. Ему не хватало слов, чтобы объяснить другим, описать эту спокойную мощь естественного хода Природы: «Оно недвижимо, бестелесно, оно само по себе… Оно идет, совершая бесконечный круг, и не знает предела… Я не знаю его имени, но люди называют его Дао».
Понять Дао разумом, исследовать, изучить его невозможно — это сверх слабых человеческих сил. Ход мироздания можно только почувствовать. Слиться с Дао, доверчиво отдаться его естественной животворной мощи — в этом для человека единственный способ обрести счастье, внутренний покой и гармонию. Но это трудный путь — удается это только тем, кто сумел освободиться от присущих человеку страстей, кто перестал гоняться за суетными выгодами и безбоязненно раскрыл себя миру, подобно новорожденному.
Когда-то человек был естественно и нерасторжимо связан с Дао, умел его чувствовать, был частью его и жил одной жизнью со всем мирозданием. Но потом он принялся выстраивать для одного себя собственный мир, цивилизацию, и постепенно утерял эту непосредственную, чувственную связь с Природой, — именно в этом и заключается причина всех его страданий, «неуютства» человека в мире. Он пытается заменить былую слитность с Дао придумками собственного разума, установить гармоничные порядки в своем обществе, но никогда не сумеет обрести на этом пути счастья, душевного покоя, ощущения бессмертия.
Непринужденно следовать естественному ходу вещей,
оставаясь незаметным, словно впадина на горе —
вот к чему стремится мудрый
и тем достигает великих возможностей.
Потому что великий порядок свободен от
распорядка.
Целенаправленные действия человека только отдаляют его от истины — Лао-цзы превозносил «благо недеяния» (у-вей). Так же он относился и к попыткам исправить общество: по его мнению, людей надо попросту оставить в покое, предоставить их самим себе, и сама Природа, в конце концов, приведет их к благоденствию.
В мире Лао-цзы переворачиваются привычные представления о человеческой силе, славе, успехе. Ничего, кроме горечи, не вызывает у него возвеличивание победоносного полководца: «Прославлять себя победой — это значит радоваться убийству людей… Победу следует отмечать похоронной церемонией».
Человек, рождаясь на свет, мягок и податлив,
а когда умирает — негибок и тверд.
Все живые твари, когда рождаются, слабы и нежны,
а когда умирают становятся сухими и ломкими.
И потому тот, кто мягок и податлив, идет дорогой жизни,
а тот, кто негибок и тверд, идет дорогой смерти.
Конечно, учение Лао-цзы (даосизм) не стало массовым. Китайцы в своей жизни предпочитали следовать практическому здравому смыслу, но они приняли даосский идеал Покоя, мировой Гармонии и Красоты — даосы всегда пользовались у них глубоким уважением. Даосское отношение к миру воплотилось прежде всего в китайском искусстве. В поэзии и живописи Китая почти нет сюжетов, в которых действуют и сталкиваются люди (если там и присутствует человек, то он всегда — созерцатель). Зато художники и поэты очень пристально, как-то особенно любовно, даже благоговейно изображают природу во всех ее проявлениях — в утреннем тумане, в побегах бамбука, в сосновой ветке или в золотых рыбках они видят красоту и гармонию всего мироздания.
.
Конфуцианство. Согласно легенде, однажды к Лао-цзы пришел молодой ученый со своими планами усовершенствования общества и государства. Его заботы о земном благополучии народа старику показались мелкими, суетными, не стоящими внимания: «Гуманность и справедливость, о которой вы говорите, совершенно излишни. Небо и земля естественно соблюдают постоянство, солнце и луна естественно светят, звезды имеют свой естественный порядок, дикие птицы и звери живут естественным стыдом, деревья естественно растут. Вам тоже следовало бы соблюдать Дао».
Вряд ли собеседники могли тогда предположить, что об их разговоре будут писать в учебниках и через много веков, а спор их затянется на тысячелетия.
Ученого звали Кун, ученики называли его Кун-Фуцзы («мудрый учитель Кун»), а узнавшие о нем европейцы позже переиначили его имя в Конфуций.
Через двести лет после своей смерти Конфуций будет официально объявлен величайшим мудрецом Китая, и императоры будут возносить молитвы и совершать жертвоприношения у его могилы, а его учение (конфуцианство) будет государственной идеологией (и даже своеобразной религией) Китайской империи вплоть до 20 века.
Устройство мироздания, взаимоотношения человека с Небом Конфуция мало интересовали [«Небо безмолвствует», — говорил он], — причину людских страданий он увидел в дурном устройстве общества. Конфуций был убежден, что можно постепенно выстроить общество и государство так, чтобы никто, ни один человек не чувствовал бы себя в нем обиженным, неудовлетворенным своим положением. И он был уверен, что ему удалось найти путь к созданию такого общества. И путь этот вел не вперед, а назад — в прошлое.
Конфуций говорил, что идеальное, с его точки зрения, общество в Китае в древности уже существовало. Из старинных легенд следовало, что «золотой век» продолжался до тех пор, пока весь народ жил в государстве по законам большой и дружной семьи. Мир и порядок в этом народе-семье держался не на жестоких законах, а на привычках, обычаях, традициях, которые не были кем-то придуманы, а впитывались каждым буквально с молоком матери: уважать старших и беспрекословно им повиноваться, не злоупотреблять своей естественной властью по отношению к младшим и быть к ним милостивым, удовлетворяться любым своим местом в семье, поскольку ты занимаешь его не за какие-то свои качества, а по праву рождения и т. д. Равенства между людьми не было, да и быть не могло, но это вовсе не считалось несправедливостью — ведь неравенство было естественным, «семейным» (разве несправедливо неравенство отца и сына?). В этом обществе каждый был на своем месте и выполнял свой долг.
Но постепенно становилось все больше людей, которые претендовали на большую долю власти и богатства, чем та, которая им полагалась — на том только основании, что они умнее или сильнее. Наследники неправедно захваченных власти и богатства требовали от остальных уважения и подчинения — на том только основании, что отцы их сами достигли власти и богатства. О долге, об общем порядке уже никто не думал — новые сильные и умные, сметая все на своем пути, бросались делить и переделивать все заново. «Золотой век» кончился — наступили времена смут и всеобщего хаоса. Алчность, жестокость, предательство пролили реки крови, наполнили жизнь всех людей страданием и страхом.
Конфуций призвал вернуть «золотой век» — восстановить былые ценности. Свое идеальное государство китайский мудрец описал во всех подробностях, сверяясь с древними рукописями.
В «правильно» выстроенном государстве каждый должен был знать свое место и не претендовать на большее — в этом Конфуций видел залог благополучия каждого и всех:
«Когда человек узнает место, где он должен остаться навсегда, то определится настроение его души. Когда настроение его души определится, то прекратится всякое душевное волнение».
Младший должен неукоснительно, в любых обстоятельствах подчиняться старшему, а подчиненный — начальнику; старший должен быть милостив к младшему, а властитель — к подчиненному. Никакие, пусть даже выдающиеся, способности личности не являются основанием для нарушения этого незыблемого распорядка.
Человеком, идеально подходящим для «правильного» общества, по Конфуцию, был человек «золотой середины» — благовоспитанный, знающий все правила поведения, уравновешенный, сдерживающий не только низменные, но даже и благородные порывы души. При этом он должен быть гуманным, т. е. относиться к другим людям так, как он бы хотел, чтобы они относились к нему.
Но как подвести к такому идеальному Порядку раздираемое распрями общество?
Властители пытались навести в стране порядок, вводя все более жестокие законы, но Конфуций видел, что этот путь ведет в тупик: «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством наказаний, то хотя народ и будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда».
Конфуций предложил путь постепенного перевоспитания народа и правителей. В первую очередь необходимо, по его мысли, всем внушить старые простые — «семейные» — правила. Приучить всех к неукоснительному соблюдению этих правил можно через обряды и ритуалы, которые должны войти в привычку, «в плоть и кровь». Для каждого подданного в зависимости от его должности существуют правила поведения в любой ситуации — как идти по улице, как ехать в повозке, как входить во дворец, как поклониться, с каким выражением на лице выслушивать подчиненного или начальника и т. д., и т. д., и т. д. Человек, который приучит себя к соблюдению всех этих повседневных сложных ритуалов, по мысли Конфуция, должен перемениться и внутренне.
Европейцы с иронией называли такое поведение «китайскими церемониями», однако для китайцев, воспитанных в конфуцианстве, эти четкие и обязательные ритуалы стали настоящими символами единства народа и внутреннего мира в стране.
Немногим народам Древности и Средневековья так жизненно необходимы были единство, сплоченность, внутренний порядок, как китайскому [стоило властям из-за собственных неурядиц один раз не организовать расчистку магистрального оросительного канала, как голод грозил сотням тысяч семей, — в таких условиях жили, пожалуй, еще только египтяне]. Но одновременно мало какой из народов так кроваво страдал от междоусобных распрей, кончавшихся иноземными нашествиями и расстройством всей сложной системы поливного сельского хозяйства, крупного (почти промышленного) ремесленного производства и развитой внутренней торговли. Поэтому китайцы с таким энтузиазмом приняли конфуцианский идеал всеусредняющего государства.
Конечно, мечта Конфуция о «золотом веке» в государстве-семье в полностью законченном виде не осуществилась. Но многие его предложения были использованы в налаживании государственной жизни; на правилах Конфуция воспиталась за два тысячелетия сотня поколений китайцев.
.
ХРИСТИАНСТВО
Сегодня христианами называют себя более двух миллиардов человек. Основы этого самого влиятельного сегодня в мире вероучения были созданы более трех тысяч лет тому назад на Ближнем Востоке небольшим полукочевым народом — евреями.
Ветхий Завет. Каждый народ, племя, род считал своими покровителями своих богов, которых было несколько. Между богами были, как правило, сложные взаимоотношения, которые люди могли использовать в своих интересах. Вселенная в этих религиях возникала стихийно из первозданного Хаоса, из которого вместе с миром рождались и боги-покровители. Она имела начало, но окончательного завершения ее не предусматривалось, а потому существование мира не могло иметь конечной цели, а существование человека — смысла.
В каждом человеке есть отсвет вечной божественной сущности. Но его поступки, весь ход его жизни во многом зависят от него самого — личность самостоятельна, она автономна от своего Творца, она имеет и свою собственную волю, она способна к самостоятельному выбору.
Бог создал земной мир для человека. Когда этот мир закончится, всем людям, которые в нем жили, предстоит пройти через Страшный суд, где будет окончательно оценена земная жизнь каждого человека. Души тех, кто в этой жизни выполнял Божьи заповеди, обретут вечное блаженство в Раю, остальные же будут обречены на вечные муки в Аду.
С течением времени, со сменами поколений образ единого Творца в человеческой памяти искажается и дробится, забываются его наставления в земной жизни. Чтобы память о Нем и Его требования постоянно присутствовали в человечестве, Он заключил договор (Завет) с человеком, чья жизнь наиболее соответствовала замыслу Творца — с Авраамом. Его потомство стало народом, через который, на примере которого Бог стал говорить со всем человечеством.
«Избранный» таким образом еврейский народ попал не только под покровительство и опеку Творца, но и под Его непосредственный и очень жесткий, часто беспощадный контроль. История этого народа, описанная им самим в Библии, — непрерывная череда поощрений и наказаний свыше, размышляя над которыми можно понять суть требований Творца к человеческому роду в целом.
Бог дал«своему» народу определенно сформулированные правила жизни — Десять заповедей и в дополнение к ним еще несколько сотен предписаний и запретов. Однако даже самое строгое их соблюдение для жизни «в Боге» было недостаточным, — истинным праведником оказывался тот, в ком естественное выполнение ритуальных правил сочеталась с глубокой, простодушно-искренней доверчивостью и любовью к Творцу.
«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Ветхий Завет)
Появилась и крепла вера в приход Божьего посланца — Машиаха, Мессии, Спасителя, который, наконец, установит на земле Божественную справедливость, и в этом новом мире Сам Творец откроется людям со всей полнотой и ясностью [в христианской традиции общепринятым стал греческий вариант этого слова — Христос]. Все более напряженное ожидание Машиаха охватывало народ Израиля, когда со своей проповедью выступил Иисус из Назарета.
.
Новый Завет. Подавляющее большинство евреев не признало в Иисусе Спасителя мира, — во многом потому, что столь страстно ожидавшегося Царства Божия на земле не наступило [Иисус и не обещал его, говоря «Царство Мое не от мира сего»]. Однако уверовавшая в Него часть народа со временем откололась от иудаизма и вместе с Ветхим Заветом разнесла весть о Нем по всему Средиземноморью — так начинала завоевывать мир новая религия — христианство.
Иисус не раскрывал тайн устройства мироздания. Он почти ничего не говорил об «избранном» народе, о его миссии в мире, но обращался к каждому отдельному человеку, взывал к его совести и помыслам. Его проповедь была — о человеке, о его постижении Творца, о его жизни «в Боге».
Старательного и точного выполнения всех законов для Спасения недостаточно, — эта «правильная» жизнь может быть высоко оценена окружающими людьми, но Бог смотрит в самую глубину человеческой души и отвергает тех, кто следует этим правилам просто по привычке или из желания выглядеть праведником в глазах окружающих.
Иисус не отменял прежних заповедей — но Он призвал людей превратить их из ритуалов в глубокие внутренние принципы человеческой жизни. Иисус довел требование следовать Закону до самой крайней, почти невозможной для человека степени:
«Вы слышали, что сказано: «око за око, и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду…
Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных…
Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».
(Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея)
Люди, слушавшие Иисуса, ждали от него каких-то новых правил, а Он говорил совсем о другом, — человек должен почувствовать Бога в себе самом, вместить Его в себя и прожить на грешной земле как Его маленькая, но так же совершенная частичка. Но под силу ли такое слабому человеку, окруженному соблазнами земной жизни?!
«Ученики ужаснулись от слов Его… и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Евангелие от Марка).
Бог может помочь человеку, внутренне готовому стать «сыном Отца Небесного», — Он Сам может снизойти на него, осенить его своей благодатью. Такое состояние души дает человеку невероятную свободу — думать, чувствовать, поступать совершенно естественно, по совести, потому что голос его совести становится голосом самого Бога.
«Полюби Бога и делай, что хочешь» (блаженный Августин)
Понять Бога разумом человеку не под силу. Путь души к своему Создателю — не через мудрость. Заслужить близость к Нему невозможно никакими земными подвигами и жертвами — даже во Имя Его. Открывается Он лишь простым, по-детски наивным и чистым душам, которые только и способны на безоглядную, доверчивую любовь к Нему. Бог есть Любовь.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
(Апостол Павел)
Человеческий идеал, совершенный человек, о котором говорил Иисус, воплотился в Нем Самом. Христианину приблизиться к этому идеалу можно лишь неустанно совершенствуясь, испытывая и закаляя свою душу и — напряженно, страстно ожидая Благодати, Божественного откровения.
«Просите и дано будет вам; ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Евангелие от Матфея)
.
ИСЛАМ
Идеи Книги распространялись не только в Средиземноморье, они проникали и на восток. Под их обаяние попали и аравийские племена пустынных кочевников. На этой «закваске» здесь, в Аравии, поднялась религия, которой была суждена долгая жизнь и огромное влияние на все мировые дела.
Ее основатель — торговец, караванщик Мухаммед был неграмотен, но обладал всеми качествами духовного вождя, пророка. Он начал свою проповедь в сорок лет, когда его начали преследовать видения: архангел в пустынном ущелье читал ему отрывки из божественного свитка, в котором начертан был истинный Закон.
Видения эти повторялись, Мухаммед воспроизводил священные тексты перед своими грамотными друзьями, — и они записывали их. Собранные вместе, эти отрывки составили Коран.
Мухаммед не считал, что он создает совершенно новое верование. Он чтил библейских патриархов, Моисея, израильских пророков, Иисуса, но считал, что Бог через них доносил до людей лишь отдельные кусочки Закона (которые к тому же дошли через века в искаженном виде). Ему же божественное Откровение было открыто наиболее полно и в своем изначальном виде.
В основных своих чертах устройство мира в исламе и его движение очень похожи на иудейские и христианские представления о вселенной и ее судьбе: этот мир родился в божественном Творении и должен закончиться Страшным судом; человек должен прожить свой век на земле, выполняя Божью волю; следование вышним требованиям приводило каждого отдельного человека в рай, а нарушение их — в ад. Но, несмотря на эту внешнюю похожесть, роль человека в исламе, его предназначение существенно иные, чем для других «народов Книги» — иудеев или христиан.
Мусульманин отвечает перед Богом не за грехи всего народа в целом (как в иудаизме), а только за свои собственные. Он находится под гораздо более жестким контролем свыше: по сравнению с христианином у мусульманина гораздо меньше свободы воли, он ограничен в выборе — как поступить в том или ином случае, ибо считается, что его поступки просчитываются и предопределяются Аллахом заранее.
Единый Бог ислама, Аллах, доступнее для понимания простого человека: Он — господин, а человек — раб Его воли. Аллах не ставит человека всякий раз перед трудным нравственным выбором, как поступить, а — повелевает.
Евангелия определяют общие принципы жизни христианина, предоставляя ему самому определять, что есть добро или зло в каждом конкретном случае. В тексте же Корана, по убеждению мусульманина, даны полные и исчерпывающие ответы на все случаи прошлой, нынешней и будущей жизни — «извлечь» оттуда эти ответы — обязанность богословов, знатоков Корана.
Требования Аллаха к земному поведению человека строги, но просты, подробно расписаны и вполне выполнимы. Мусульманин может быть уверен в будущем райском блаженстве, если: как можно чаще будет произносить главную формулу веры («Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед посланник Аллаха»); пять раз в день будет молиться, точно соблюдая все ритуальные позы и движения; поститься в определенные периоды; выплачивать небольшой, но обязательный налог в пользу бедных; совершить паломничество в Мекку и исполнить там определенную череду ритуалов; не есть свинину и мясо животных, убитых «не по правилам»; не пить вина и т. д. Многочисленные ритуалы и запреты играют в исламе огромную роль, ежедневно и ежечасно напоминая мусульманину о его неразрывной связи с Аллахом.
Земные обычаи и законы государства не могут полностью совпадать с нравственным законом Евангелия — поэтому христианин часто противостоит обществу и государству, в котором он живет. Мусульмане же в своей стране живут в очень цельном мире, в душевном комфорте. Для них не может быть ситуации, когда государство требует от них одно, а нравственный закон веры предписывает им нечто другое, — ведь абсолютно все законы государства напрямую выведены из текста Корана, а каждый спорный жизненный случай изучается и решается не выборными законодателями, а учеными богословами.
Ислам заботится прежде всего об устройстве земной жизни человека и общества в соответствии с предписаниями Корана. Он обращен к человеку, он делает для него мир мусульманской общины справедливым, удобным и понятным. Даже райское блаженство здесь очень привлекательно именно по земным меркам: много воды, вполне плотские любовные утехи с прекрасными девами-гуриями, запрещенное в земной жизни вино…
Особенностью ислама является его отношение к окружающему мусульманскую общину миру «неверных». Он делится на две части: «область мирного договора» — страны, подчинившиеся мусульманам, где «неверные» платят специальные налоги и находятся под покровительством ислама, и «область войны» — страны, неподчинившиеся мусульманам, с которыми ведется вечная война (отсутствие военных действий считается лишь временным затишьем). Мусульманин, убитый в ходе официально объявленной священной войны с «неверными» (джихад), попадает в рай автоматически, какие бы грехи за ним ни числились. Эти принципы, с одной стороны, делали мусульман непримиримыми и самоотверженными воинами, а с другой, — способствовали их веротерпимости и обеспечивали религиозный мир на завоеванных территориях.
.
Все, что сказано здесь о мировых религиях относится к их первоначальным вариантам — это те идеи, которые легли в основу вероисповеданий народов. Но в течение сотен и тысяч лет идеи эти претерпевали значительные изменения.
Более поздние религиозные мыслители не просто осмысливали заветы основоположников — они их додумывали, «разворачивали», делали из них выводы созвучные потребностям своего времени. Каждый из них делал это по-своему, они спорили, часто не соглашаясь друг с другом, а разногласия учителей у их учеников перерастали в открытую вражду — вначале единое религиозное движение разделялось на соперничающие течения и школы. Еще дальше этот процесс дробления заходил тогда, когда религиозная идея из узкого круга богословов проникала в самую толщу народа, когда осмысливать ее, примерять на себя начинали массы «простых» людей.
Для того, чтобы как можно шире распространить новое вероучение, создавались религиозные организации (церкви), которые со временем превращались в мощные политические силы. Их руководители начинали претендовать на руководящую роль в чисто земных делах, им требовалось увеличивать свое мирское влияние. По этим причинам первоначальную идею несколько «подтасовывали», приспосабливая ее к нуждам религиозной организации. Гениальные озарения Учителей превращались в тяжеловесные, сложные и пышные культы, их стали обрамлять множеством обрядов и позднейших предписаний и правил.
Но, когда жизнь и душа ставят перед людьми все новые и новые вопросы, они расчищают позднейшие наслоения и ищут ответов у истоков своей веры.
.
ЯЗЫЧЕСТВО
Несмотря на широкое распространение мировых религий большинство населения тогдашнего мира было «языческим». В своем старом значении слово «язык» было синонимом понятия «народ», так что «язычество» буквально означает «народные» верования. И даже тогда, когда формально народ принимал одну из мировых религий, в толще населения многие столетия сохранялись языческие представления о мире, едва закамуфлированные обрядами нового вероисповедания.
Так кто же такой язычник? Язычник — это тот, кто полагает, что нет и не может быть единственного Создателя и Вседержителя Вселенной, а в мире есть бесчисленное множество сверхъестественных существ (богов, духов, демонов, умерших предков или святых). И каждый из них «заведует» своей сферой (землей, водой, солнцем, урожаем, войной, семьей), причем каждая группа их «привязана» к определенной территории, племени или роду.
Язычники ощущают свою слитность с земным миром, свою неотделимость и полную зависимость от окружающей их природы. Для язычника одухотворена каждая местность: любой ручей, колодец, роща, дерево, дом, даже предмет, изготовленный им самим — во всем живет дух, божок (добрый или злой, простоватый или лукавый, мстительный или добродушный). Умирая, человек из этого реального мира не уходит, а просто перемещается в другое его измерение. Умерший остается рядом с живущими, и, будучи невидимым, помогает или вредит их делам. Поэтому у языческих народов обычно очень развит культ предков — их задабривают жертвами, у них просят покровительства, защиты, советов.
Для язычника нераздельны мир реальный и загробный, мир живых людей и обиталище духов, — они как бы «вдвинуты» один в другой. Потусторонние силы активно влияют на жизнь земную, подают свои сигналы — через сновидения или посредством других знамений — солнечных затмений, черной кошки, перебежавшей дорогу, через расположение звезд на небе.
Связь с потусторонними силами вполне осуществима — нужно только научиться понимать их тайные знаки. Поэтому язычники проявляют особый интерес к различным приметам (к тому, что христиане называют «суевериями»), к гаданиям, вызыванию духов, к гороскопам и т. п. Некоторые из живых уверены, что владеют способами общаться с душами умерших и богами (колдуны, шаманы, ведуны, волхвы и пр.). Они уверены, что являются «мостиками», связывающими воедино этот и «тот» свет.
В языческих верованиях очень слабо выражена идея о загробном воздаянии за земные прегрешения. Интересы язычника сосредоточены прежде всего на реальном, земном существовании — на избавлении от бедствий, на материальном благополучии, на удаче. Он зовет в помощники потусторонние силы, чтобы осуществить свои земные желания.
Уходя в другие места, язычник оставляет одних и встречается с другими божествами, с которыми тоже нужно поладить, ужиться. Воюя с другими племенами, язычники уверены, что одновременно идет война и между племенными богами-покровителями, и от исхода небесных битв зависит земная военная удача.
Если племя оказывалось побежденным врагами, то это означало, что победили чужие боги, и придется не только подчиняться противникам, но начать почитать и их богов. Потеря своих небесных покровителей очень быстро вела к полному растворению побежденных в среде победителей.
Согласно языческим представлениям, добро — это то, что идет на пользу твоему роду, племени, народу, а злые дела — это те, что вредят их благополучию и удаче. Честность, милосердие, запреты насилия, убийства действуют для язычника только по отношению к «своим», но моральных запретов по отношению к «чужакам» не существует. У многих языческих народов их самоназвание означает в переводе «люди», — и тем самым подразумевается, что инородцы людьми в полном смысле не являются.
Читать дальше: